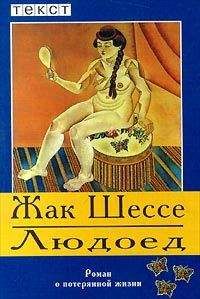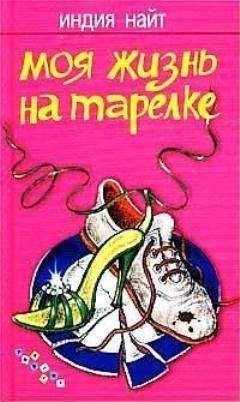Волосатая рука протянулась к Жану Кальме — Жану Кальме, который споткнулся на полпути, покраснел, взмок до корней волос, подал, в свою очередь, влажную руку, проследовал за людоедом в его логово и бессильно опустился в жесткое кресло, указанное хозяином. Тот уже сидел перед ним за письменным столом, костистый, массивный, в черных очках, которые и прятали и выдавали водянисто-синие глаза, чей взгляд насквозь пронизывал сердце Жана Кальме.
— Я буду с вами откровенен, господин Кальме, — оглушительно начал директор, и Жан Кальме, в который уже раз, отметил его акцент уроженца кантона Во, сохранивший тягучие нотки крестьянского говора. — Вас любят и уважают в нашей гимназии, господин Кальме, мы ценим ваш высокий профессионализм. Ученики вашего класса прилежно занимаются, вы способны вызвать у них тягу к знаниям, и я не раз слышал от их родителей, с какой любовью они относятся к вам. Именно это и побуждает меня сегодня говорить с вами весьма решительно.
Он сделал паузу, широко улыбнулся, показав зубы, и Жан Кальме приготовился быть съеденным со всеми потрохами.
— Я не стал беседовать с вами тотчас после инцидента, решив дать вам время прийти в себя и поразмыслить. Речь идет о прискорбном происшествии в «Епархии». Вы, разумеется, понимаете, что до меня дошли слухи об этом событии — от многих ваших коллег и от родителей, которые поспешили выразить мне свое удивление. Добавлю также, что мне звонили, весьма конфиденциально, из уголовной полиции, с целью выяснить, не замешаны ли тут наркотики.
Наша профессия такова, что за нами пристально следят, господин Кальме, и я, признаться, плохо понимаю, зная ваше ответственное отношение к работе, нас объединяющей, как вы дошли до таких крайностей. Так что же случилось, господин Кальме? Вы выпили лишнего? Вы потеряли чувство реальности? Конечно, если это просто случайный нервный срыв, тогда дело другое. Объяснитесь же, господин Кальме, будьте откровенны, — в конце концов, я гожусь вам в отцы…
Жан Кальме сверхчеловеческим усилием заставил себя смотреть в таинственные черные стекла; он не мог говорить, его вспотевшая рука дрожала на подлокотнике кресла.
— Мне стало дурно, — выговорил он наконец.
Господин Грапп покачал головой, снисходительно, точно говорил с ребенком.
— Я… плохо помню случившееся, — продолжал Жан Кальме упавшим голосом. — Я говорил что-то несвязное… Ничего не видел перед собой…
— Прискорбно то, что вы не говорили, а кричали, — отрубил директор. — В вашем положении такие вещи неприличны. В кафе на тот момент было более тридцати учеников. Впрочем, и само кафе… но это уже другая проблема, и с ней мы разберемся в свое время. Согласитесь же, господин Кальме, что ваше поведение было прямо-таки скандальным.
Жан Кальме пролепетал, что он согласен.
— Может быть, у вас не в порядке нервы, господин Кальме? Может быть, вам следует полечиться, провести несколько недель в клинике?
Жан Кальме в ужасе подскочил. Клиника, психиатры, его бедное сердце, вывернутое наизнанку, палата-одиночка, режим… Собрав последние силы, он объявил, что абсолютно здоров.
— Много ли вы пьете, господин Кальме? Вас часто видят в кафе в компании учеников, за пивом, за абсентом…
Нет-нет, он, Жан Кальме, не пьет. Конечно, он любит общаться с молодежью. Нет-нет, господин директор, никакой особой склонности к алкоголю. Нет, его не тянет к вину. И никогда не тянуло.
— Вам нужно бы жениться, господин Кальме. Нехорошо жить холостяком, Тем более что вы родились в многодетной семье и наверняка страдаете сейчас от одиночества. Я хорошо знал вашего дорогого батюшку — вот уж кто жил исключительно для семьи, для детей, для пациентов! Ах, какой замечательный был человек! Нынче таких почти не осталось. А наша страна серьезно нуждается в них. Какие масштабы, господин Кальме! Какая хватка! Какая сила! Какая преданность! Короче, — отрезал он, — я рассчитываю на вас и надеюсь, что это мелкое происшествие в «Епархии» больше не повторится. Подумайте о родных, подумайте обо всех нас. Встряхнитесь. Найдите себе подругу жизни, народите ребятишек, господин Кальме.
Et libri, et liberi <Книги и дети (лат.).>, как выражались дорогие вашему сердцу римляне. Вы вполне способны и копаться в книгах и воспитывать своих отпрысков. Итак, дерзайте, господин Кальме! Рад был побеседовать с вами. Помните, что я всецело доверяю вам.
Он встал, и его мощная фигура в желтом пиджаке заслонила все окно, грубая волосатая лапища протянулась к руке Жана Кальме, стиснула ее, потрясла в воздухе между брюхом каннибала и временно помилованной жертвой. Спасенный и уничтоженный, Жан Кальме выбрался в коридор, где бронзовый Рамю устремил на него свои отвратительно пустые гляделки.
Сам не зная как, Жан Кальме оказался на площади Палюд. Он шагал машинально, ни о чем не думая; близился вечер, воздух был теплый, чуточку приторный. Он знал, куда идет, но ему не было стыдно. Любой ценой стереть воспоминание об этой сцене с помощью другой, пусть даже из ряда вон выходящей. Любой ценой спастись от гнета директора, губителя жизни, затмевающего свет.
Жан Кальме спокойно пересек площадь Палюд, спустился к улице Лув, толкнул дверь, поднялся по лестнице. Четвертый этаж. Деревянная черная дверь с пришпиленной карточкой:
Пернетта Коломб. Пышные груди в низком декольте. Глаза, разрисованные жирным гримом.
Кроваво-красные губы. Пятьдесят пять лет. Выражение циничной иронии на круглом лице.
— О, да это мой миленький учитель!
С радостным кудахтаньем она чмокает Жана Кальме в щеку, приседает в реверансе и торжественно-комическим жестом приглашает его войти в свою двухкомнатную квартирку.
— Ну, как поживает мой миленький учитель? Давненько, давненько он не навещал свою Пернетту. Видать, дела одолели или, может, подружка завелась, а?
Жану Кальме не противно ее слушать: под этим зубоскальством он чует что-то вроде искренней нежности, которая потихоньку развеивает его тоску. Пернетта присаживается на диванчик поближе к нему.
— А не подумать ли нам сперва о подарочке, миленький, чтоб уж после ни о чем не беспокоиться? Как всегда, правда, пупсик?
Не глядя на женщину, Жан Кальме сует в ее руку, лежащую у него на колене, пятидесятифранковую бумажку, загодя приготовленную в кармане. Подхватив деньги, Пернетта бросает их в ящик комода, который тут же запирается двойным поворотом ключа. Хлопая в ладоши, она подбегает к Жану Кальме и опрокидывает его на диван, задрав голые лоснящиеся ноги.
Стискивает в объятиях, впивается в губы поцелуем с запахом гренадина.
— Ну, пошли, малыш!
Она тащит его в другую комнату, ставит перед раковиной. В комнате почти жарко. Расстегнув Жану Кальме брюки, она сует руку в ширинку, высвобождает член, кладет его на холодный край раковины. Кусочек розового мыла. Две ловкие руки обмывают теплой водой приподнятый член. Брюки едва держатся на бедрах. Затем он идет за толстухой к тахте.
Комбинация. Розовый эластичный пояс. Ноги без чулок. Пунцовый рот с запахом гренадина, приникнув к вздымающемуся животу Жана Кальме, жадно вбирает, сосет, лижет, покусывает; рука с поразительной быстротой ходит взад-вперед под его узкой спиной.
Черные трусики съезжают вниз по жирным ляжкам. Почти голый розовый лобок. Рука преподавателя латинского языка и литературы кантональной гимназии в Ситэ роется в этом публичном гнезде, раздвигает губы, смазанные глицерином.
— Давай! Давай!
Вздохи. Мерные толчки бедер. Жан Кальме, опираясь на колени, зарывается в пухлые округлости и складки ног Пернетты Коломб. Когда-то она объяснила ему происхождение своего имени. "На самом деле меня зовут Дениза. Мой отец любил меня до безумия. Он пил, мой папаша. Он работал кровельщиком. Это было во Фрибурге, еще до войны. Он сажал меня на свой велосипед, и мы ездили по округе, останавливались в кафе, он дул перно, абсент — в те времена абсента было хоть залейся. Вот он и прозвал меня своей пернеттой, своей божьей коровкой, своим утешением; он всегда смеялся и говорил приятелям, что я его единственная любовь. Однажды он нахлестался пуще обычного, упал с крыши и разбил голову об асфальт.
С тех пор я зову себя не иначе, как Пернеттой. Это все, что мне осталось от него. Моя рабочая кличка, вот так-то, учитель!" Жан Кальме вонзается в лоно толстой божьей коровки, которое умело имитирует трепет и экстаз. «Милый! Милый! — кричит она. — Ну, еще, еще!»
Это слово — милый — больно ранит. Но тут же мягкая влажная пульпа жадно засасывает его, и он, внедрившись в глубину блаженной горячей пещеры, извергается в нее, остановив свой бег на месте.
В момент ухода Жан Кальме уже не тоскует; гул, доносящийся с площади, сулит ему новые радости. Дениза осыпает его нежными словечками; как давнего клиента, она угощает его рюмочкой коньяка, чтобы он не чувствовал себя слишком одиноким в городе.
На прощанье Жан Кальме получает еще один поцелуй, благоухающий гренадином. Он нерешительно медлит на пороге. Потом выходит. «Да-да, конечно, л приду еще!» И только в коридоре на него вновь нападает печаль. Он спускается по лестнице. Выходит на площадь.