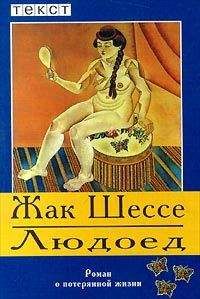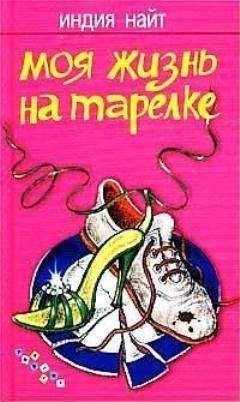На прощанье Жан Кальме получает еще один поцелуй, благоухающий гренадином. Он нерешительно медлит на пороге. Потом выходит. «Да-да, конечно, л приду еще!» И только в коридоре на него вновь нападает печаль. Он спускается по лестнице. Выходит на площадь.
Испытывает леденящий стыд, который заставляет его избегать людских взглядов. О, Жан Кальме, тебе слишком хорошо ведомо, что Дениза — женский вариант имени Дионис! Сестра, дочь, вдохновенная подруга божества. Какая насмешка! Какая жалкая пародия! Но близится вечер. Жан Кальме стоит, понурив голову, и именно в этот миг понимает, что стал добычей мрака, что должен отвернуться от горных высей, населенных богами.
Кости его наполнены грехами юности его…
Книга Иова, 20, 11
Как раз в это время в гимназии вспыхнули волнения, прогремевшие на всю страну и принесшие печальную известность господину Граппу. По многим причинам событие это изменило жизнь и самого Жана Кальме.
Все началось в соборе, на церемонии Выпуска, знаменующей собой переход сотен юношей и девушек из коллежа второй ступени в гимназию. Один из учеников, который должен был декламировать с кафедры стихи, решил воспользоваться столь торжественной трибуной, чтобы раскритиковать в пух и прах систему образования с ее программами, осмеять своих преподавателей и призвать товарищей «не смиряться с гнетом».
Произошел оглушительный скандал.
Подумать только: на Выпускной церемонии, со святой церковной кафедры выступает мятежник, левак, оскорбляющий власти! Газеты раструбили новость по всей стране, всюду кипели страсти: жители сельских местностей обрадовались случаю предать анафеме школу, которая воспитывает одних бунтовщиков, горожане колебались между внешне суровыми «правыми» и зубоскалами-социалистами, родители засыпали редакции яростными письмами и сражались с сыновьями, требуя, чтобы те обрезали длинные волосы.
Господин Грапп и Департамент образования приняли весьма знаменательное решение: временно исключить дерзкого оратора из гимназии и допустить его к занятиям вместо апреля только в сентябре. Это послужило предлогом к многочисленным вспышкам недовольства, которое без конца подогревали левые организации, и начались шествия с лозунгами и плакатами, стихийные митинги на тесных площадях Ситэ, ежедневные листовки групп «Крот», «Спартак», «Марксистская лига» или «Разрыв», речи исключенного перед членами Департамента народного образования, и прочее в том же духе. «Верните в гимназию Пьера Зуалена!»
— скандировала на площади Барр пестрая жизнерадостная толпа, в которую замешалось немало бродяг, карманников и бывших легионеров, словом, подонков квартала с его парой убогих кафе. Все это произошло в прелестный майский день, низкие деревца площади Барр уже оделись зеленым кружевом листвы, а гигантский каштан вдруг помолодел на сто лет. Гимназисты буйной толпой ворвались на площадь с Университетской улицы, смеясь, толкаясь, танцуя и распевая во все горло; девушки украсили себя цветами — одни вплели в косы незабудки или розы, другие размахивали пучками тюльпанов, сорванных в парках Уши и Монбенона, — а что такого, у нас все принадлежит всем! И цветы — наши, и праздники — наши! Чего тут только не было — и веселые плакаты типа «Занимайтесь любовью!», «Долой преподавателей!», «Родители — уроды!», и другие призывы к любви и свободе — ни дать ни взять поэма Элюара. Длинные платья, босые ноги, затерханные джинсы, старозаветные мундиры, брошенные на берегу реки южанами в роковой день 6 апреля 1865 года <Имеется в виду американская война Севера и Юга, в которой южные штаты потерпели поражение. Очевидно, в ней участвовали и предки молодых швейцарцев.>, и замечательные песни — «Партизан», «Интернационал», «Бандера росса», «Время цветения вишен», и испуганные люди на тротуарах, и местные пьянчужки, заросшие угольно-черной многодневной щетиной, и сердитый лавочник, сперва решивший вызвать полицию, а потом затянувший вместе со всеми «Время цветения вишен», и карлик, пулей вылетевший из кафе, — он никак не мог остановиться и врезался в группу «девушек в цвету», а врезавшись, давай дурачиться: ту обнимет, эту дернет за подол оранжевой юбки, а третью обхватит своими длинными ручищами и закружит в вальсе — высокую, стройную красавицу девчонку, о каких он и мечтать-то не смел.
Жан Кальме смотрел на все это с величайшим удовольствием. Присев у подножия замка на каменный бортик, огораживающий стоянку машин жандармерии, он восхищался синевой небосвода, этой пронзительной синевой, такой же веселой, как суматоха на площади, посмеивался над лозунгами, несущимися из мегафона, над гулом толпы, выслушал пламенную речь Зуалена и втайне одобрил ее. Но вдруг он обмер, и тоска сдавила ему горло: в самом центре возбужденной толпы он заприметил круглую корзиночку, так живо напомнившую ему сокровище Красной Шапочки. Он вгляделся: корзиночка опять мелькнула между чьими-то двумя фигурами; лица были скрыты транспарантами, но Жану Кальме удалось разглядеть золотистые косы под желто-белой шапочкой; сомнений не было — это Тереза. А что за юноша держит ее за руку? Да ведь это Марк, с его длинной черной гривой! Марк, возлюбленный маленькой покойницы из Креси, Марк-Орфей, которого сфотографировали лежащим на холодной могильной плите рядом с прозрачной Эвридикой, готовой уйти в Аид. А сейчас Марк держит за руку Терезу. Пестрый вихрь платьев и лент. Крики, взрывы смеха. Мегафоны призывают толпу перейти на Туннельную площадь. Через несколько минут молодежь с песнями удаляется, площадь Барр пустеет, и теперь на ней хозяйничает лишь весна.
Жан Кальме вновь увиделся с Терезой уже в «Епархии»; она рассказала ему о демонстрации, не словом не обмолвившись о Марке. Тереза решила вернуться в Школу изобразительных искусств, чтобы выучиться на декоратора, — такой диплом получить легче, чем преподавательский. Нет, в этот раз она не ездила в Монтре. Она проведет там следующий уик-энд. Монтре… Жану Кальме вспомнились ряды пальм на берегу сиреневого озера, зубчатые кровли готических особняков, расплавленное золото заката.
— Ты приедешь за мной в воскресенье вечером?
— Где тебя найти?
— Наверное, в «Аполлоне». Загляни туда на всякий случай. Я не собираюсь целый день сидеть у матери. Да, зайди в «Аполлон» часам к шести. Выпьем там и вернемся в Ситэ. Идет?
— Идет, — ответил Жан Кальме. Она всегда говорила «идет?» вместо «договорились?», и он перенял у нее это словцо. — А чем ты сегодня занималась?
Вместо ответа последовал уклончивый жест и улыбка, тут же стертая пробежавшим по губам язычком; о, кошечка, кошечка в прозрачной блузке, кошечка в медных и деревянных бусах, в арабских и афганских кольцах, кошечка с бронзовой шерсткой, возбуждающей сладкое безумие и острое ненасытное желание во влажной ночной тьме!
Затем они расстались. Жан Кальме пошел домой проверять тетради; он рано лег и тотчас заснул. Утром, проснувшись, он первым делом вспомнил о свидании, назначенном в воскресенье в Монтре.
Было восемь часов, когда он приехал в гимназию. Поставив машину на площади Мерсери и выйдя со стоянки, он сразу заметил, что дело неладно. Какой-то незнакомец при виде его торопливо шмыгнул за угол. На бульварных скамейках были грудами свалены транспаранты.
Несколько подростков — скорее всего, ученики коллежа или первого класса гимназии — курили сигареты у входа в «Епархию».
В этот ранний, свежезеленый час, когда голуби на карнизах собора дарят первые поцелуи своим нежным ронсаровским подругам, Жан Кальме, милый молодой преподаватель Жан Кальме, даже представить себе не мог, что уготовило ему нынешнее утро, какое роковое воздействие окажет оно на его собственную жизнь, и без того подверженную угрозам и нападкам, способным кого угодно обречь на муки ада.
Как всегда по утрам, Жан Кальме читал «Трибюн». Потягивая теплый кофе, он листал газету, дивясь множеству гадостей, восхваляемых на ее серых страницах.
И вдруг разразился праздник.
Около сотни молодых людей ворвались на площадь Мерсери и расселись в нижнем дворе гимназии, хохоча и выкрикивая лозунги. Настоящий sit in — сидячее бдение, как в кампусах: юноши и девушки сидят прямо на земле, и преподаватели вынуждены перешагивать через них, чтобы войти в здание. Несколько десятков парней, размахивая руками, заполонили верхний двор. Мегафон призывает гимназистов опротестовать решение директора и Департамента образования. Волнение, крики, суматоха. Группы молодежи собираются проникнуть в здание. Внезапно воцаряется тишина, все замирают: в дверях гимназии стоит господин Грапп; массивный, огромный, с блестящим черепом и черными очками на носу, он пристально, неотрывно глядит на бунтовщиков. Но собравшихся пугает не столько грозная сила, исходящая от директора, сколько другое: рука господина Граппа сжимает необычный предмет — жуткий атрибут властителя, словно вышедший из мрачного средневековья; это хлыст, длинный кожаный плетеный хлыст, свернувшийся кольцом, как змея, готовая ужалить, с блестящей и толстой рукояткой-палицей. Мгновение общего ужаса, крик кого-то из парней; затем мегафон повторяет команду, и толпа манифестантов движется к порталу. Грапп шагает им навстречу.