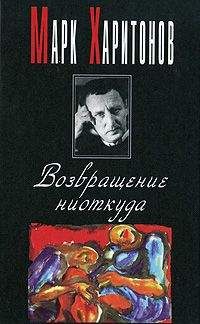Неогражденные переходы соединяли дома на уровне высоких этажей. Откуда-то снизу доносились голоса, мужские, женские, знакомые возгласы играющих в прятки детей. У них, как всегда, были свои игры, и как всегда, к ним было не попасть, не спуститься — не вернуться в случайно удавшийся сон. Тебе лишь померещилась однажды, что ты можешь войти на равных в чью-то жизнь. От высоты бесконечных переходов кружилась голова. Вдали, а впрочем, уже совсем рядом, сияли, как настоящие, дома недоступной манящей Зоны. Можно было различить буквы на крупных вывесках. За домами, как прежде, высилась еще более укрупнившаяся, но без подробностей — против света — труба. С некоторых пор она перестала распространять вокруг белесую пленку; может, потому в ее виде было теперь что-то ненастоящее… я не сразу понял это чувство. Небо светилось чистотой и голубизной — под цвет новеньких штанов и куртки на мне (кто-то на работе предложил папе костюмчик совсем задешево; в магазине такого не купишь)… но тут наконец мне удалось попасть на лестницу, которая позволила спуститься и даже выйти из никак не кончающейся постройки — на землю, на утоптанную и подсохшую в строительной глине тропку, а там уже дальше по ней, как по вынужденной колее, без возможности свернуть.
Справа шла глухая бетонная ограда с тремя рядами колючей проволоки на ржавых, отогнутых наружу кронштейнах; слева залитая водой траншея — как ров старинного крепостного сооружения, но вместо башни над стеной — нечто вроде сторожевой вышки на столбах, только без сторожа. Дальше тропка вела в тесное пространство между двух глухих стен. Ноздреватые поры бетона вплотную к лицу, затверделые пузырьки, мелочь камешков и песчинок. От прикосновения они осыпались; при некотором терпении можно было протереть в стене сквозную дыру — если только хватит сил и воздуха. Ощущение тесноты угнетало дыхание. Неровная серая плоскость местами казалась выдавлена изнутри: можно было угадать укрупненные очертания лиц, которые с нечеловеческим усилием пытались пробиться с той стороны к воздуху, когда бетон был еще влажен и податлив. Выпуклости носа, лба, скул, подбородка, надбровий, под ними место для глаз, лишенных возможности видеть, впадины судорожно, по-рыбьи раскрытых ртов — еще немного, и сам начнешь задыхаться вместе с ними в недостаточном воздухе между глухих стен, уже отчаявшись протиснуться сквозь тесноту — когда вдруг справа на уровне колен в стене оказывается пролом… Через него надо было проползать на четвереньках… безо всякой отчетливой цели — просто ради возможности вздохнуть наконец по-настоящему, полной грудью…
Нет, еще, конечно, из любопытства.
Воздух вновь обретал свойства подвижного ветра. Гигантская труба объявилась вдруг совсем рядом, прямо перед глазами. Она была, оказывается, красного цвета и внизу, у подножья, шириной с дом. Во все возвращался объем и цвет. Верхушки зданий, казавшихся издалека миражами, потяжелели, но все так же сияли на солнце, скрытом от низкого взгляда. Что мне здесь было нужно — на территории, запретной для посторонних? Надо было так или иначе возвращаться, попробовать углубиться опять в развороченный, недостроенный квартал, в лабиринт повторяющихся бетонных снов, где, как и в прошлый раз, как всегда, прятался единственно мне нужный, недостижимый дом. Но раз уж сюда занесло, хотелось еще немного подышать этим словно бы обновленным воздухом, или вот даже сделать шаг-другой вглубь манящего, именно своей запретностью затягивающего в себя пространства. Увлеченный гулом невольного приключения, я слишком поздно заметил, как из-за угла ближнего здания показался человек в синем, точь-точь как у меня, костюме.
Он шел, держа в левой руке вертикальную палку с примотанным к ней букетиком бумажных гвоздик, какие носят на праздничных демонстрациях — а правой еще издалека тянул ко мне бумажку, всем своим розовым, неестественно гладким лицом и даже фигурой выражая бессловесный вопрос. Бумажка оказалась пригласительным билетом, я уставился в нарядный шрифт, но не мог вникнуть в смысл слов. Клуб «Новый человек», значилось на глянцевом плотном листке. Дискуссия о сохранении смысла. По окончании пляски. Хотя ведь понимания от меня и не требовалось, меня, наверно, всего лишь спрашивали дорогу. На листке не значилось ни названия улицы, ни номера дома. Да если бы и значилось — чем я мог помочь? сам нездешний… я не мог даже ответить немому, беспомощному человеку, а он смотрел на меня с доверчивым ожиданием, и стыдно казалось это ожидание обмануть… С облегчением увидел я выкатывающуюся из-за угла коляску. Ребенок, сидя в ней, подталкивал в воздух пальцем бессильный, хотя и раздутый шар, заставляя его симулировать полет — сам непомерно большой, как будто раздутый, выпирающий из своего экипажа. За ним вслед появился мужчина, толкавший коляску, рядом его жена. Все трое были в одежде того же цвета — цвета здешнего неба… и что-то объединяло их еще, я как-то не сразу сообразил, не сразу вспомнил — только дал знак глухонемому подождать, сам заспешил к супругам с бумажкой в протянутой руке, заранее, на ходу готовясь преодолеть обычное начальное заикание…
Хорошо, что я этого не успел: в следующий миг до меня, наконец, дошло, что голос здесь как раз ни к чему. Взглянув на листок, супруги заулыбались, беззвучное движение губ и быстрых пальцев изобразило ответ. На мое счастье, оба не заметили моей беспомощности: первый глухонемой уже спешил навстречу собратьям по языку. Оживленно беседуя, они все вместе двинулись в свой клуб — охранять неизвестный, недоступный мне смысл… Зачем я потянулся за ними, в глубь запретной для меня территории? — словно еще надеялся что-то спросить у этих людей или, может, подслушать, подсмотреть — словно мое заикание начальным краешком могло приобщить меня к их полноценной немоте…
Высокие, без окон, цоколи домов вдоль тротуаров расписаны были цветными картинами: зеленые деревья в натуральный рост, праздничные люди с шарами и цветами в руках, дети с горнами у губ, с флажками и знаменами, с моделями самолетов и спутников, шагающие пешком или восседающие в своих экипажах. Некоторые фигуры казались незаконченными, намеченными лишь условно, мазками, но они дополняли и множили общую толпу: все больше людей присоединялось к нам, выходя из домов, из боковых переулков, густели цветы, шары и флаги неведомого мне тревожного торжества, неслышный возбужденный говор заполнял воздух… — а я жадно, с чувством близящейся, как обморок, догадки, вглядывался в движения их губ и пальцев, более оживленные, чем обычная речь, и подчинявшиеся теперь какому-то общему ритму.
Чужие ветры
Проникли в щели
Здоровье духа
Уходит в дыры
Чужие мысли
Смущают воздух
Опасной дрожью
Так защитим же
Свои святыни
Свои надежды
И обещанья
Устои духа
И превосходство
Немого смысла
На всех не хватит
На всех не хватит
Наверно, первый удар обрушился на меня сзади. Меня еще никогда, оказывается, не били по голове, даже в детстве. Сильней испуга и боли было любопытство, с каким я прислушивался к новому для себя ощущению, когда вещество мозга твердо и мучительно стукается изнутри о кости черепа, о подбородок: вспыхивают под гром литавр очертания голых ветвей в электрическом белом разряде, расползаются трещины по стенам, вместе с ясным и отчетливым пониманием, но тут же все возвращается во тьму перед вспышкой следующего удара, и каждое понимание кажется последним. Тело обмякает, утеряв внутреннюю опору, дома, накренившись, скользят в провал, перекатываются обломки слов и обломки предметов, их не успеваешь узнать. Черные рты искажены гримасой ненависти или страха, лица оплавлены, и невозможно крикнуть, потому что рот полон воды.
В теплой жиже, сжавшись в комок, удивляясь своей способности плавать без усилий и заботы о дыхании. Шум накатившей волны слабеет и уходит в песок. Нестерпимый свет начинает резать глаза сквозь острую щелку. Приближается, разбухая, зрачок. Не хватает дыхания. Шумная музыка бьется на песке, изгибаясь всем телом. Протискиваешься сквозь черноту, добираясь ртом до воздуха, и, разлепив глаза снова, видишь еще зрачок.
Я возникал на скрещении взглядов, как фантом на скрещении лучей — скользкий, голый, красный, словно ошпаренный. Понимание оставалось где-то там, в горячем мраке. Болела кожа, растравленная шевелением жесткого воздуха. Хотелось замереть опять, вернуться в теплую темень, поджать к подбородку ноги, слушать всем телом звук окружающего сердца. Кровь шумела, как песок, вбирающий влагу.
— Оклемался, — сказал голос.
— Уже смотрит.
— Ничего, зубы целы.
— На, подложи под затылок.
— Что, сволочи, делают!
— Хорошо, что не утоп.
— В канаве-то!
— А что!
— Легко отделался.