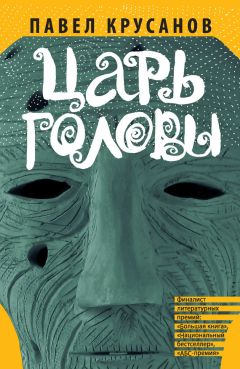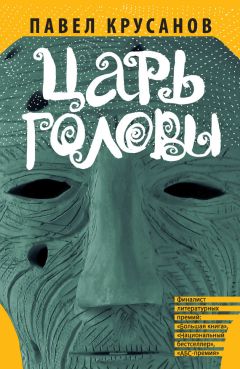С 1909 года на протяжении четверти века здешней кафедрой зоологии заведовал знаменитый профессор, учёный с мировым именем, – при нём музей серьёзно пополнил фонды и стал едва ли не лучшим вузовским музеем страны. Среди редких и экзотических объектов удивлённого посетителя встречали тут покрытый коричневой костяной чешуёй, как огромная еловая шишка, африканский ящер-панголин, иглистый мадагаскарский тенрек, семипоясный и девятипоясный броненосцы из пампасов Южной Америки, австралийская ехидна, американский трёхпалый ленивец и четырёхпалый муравьед тамандуа… Фантазия составителей средневековых бестиариев бледнела рядом с этими существами, как бледнеет извлечённая из пучины медуза, светившаяся во тьме, но погасшая на свету. Список экзотов, однако, на перечисленных экспонатах не заканчивался. В антикварных витринах и на полках застеклённых дубовых шкафов выкатывали круглые глаза лемуры и фавны, кривлялись мартышки-гусары, дрилы, гверецы и игрунки. Что уж говорить про белых и бурых медведей, каланов, коал, летучих лисиц, варанов, крокодилов, моржей, ламантинов и дюгоней… А птицы? А заспиртованные аскариды и цепни в толстых стеклянных колбах? А моллюски? А иглокожие и морские звёзды? А энтомологический отдел? А рыбы? А губки? А рептилии и амфибии? А морские членистоногие? А рога и головы копытных на стенах под потолком? Всё за один раз не могли объять взгляд и вместить память. Целиком коллекцию не удалось бы втиснуть в пределы отведённого пространства, поэтому часть экспонатов была выставлена в учебных аудиториях. Может, для иного музея – фи, крохи, а для другого – законный повод для сдержанной гордости…Случайная публика здесь не водилась: изредка приходили группы любопытных студентов, удивляли собранием приехавших на очередную конференцию гостей, время от времени ректорат распоряжался показать нужным людям музей как объект, включённый в список наиболее ценных достояний вуза, – вот, пожалуй, и всё. В остальное время двери музея были по большей части заперты, а ключ находился в распоряжении угрюмого Демьяна Ильича, третий год исполнявшего должность хранителя фондов. Ещё имелась в распоряжении хранителя каморка с верстаком, инструментами и вместительной морозильной камерой. За верстаком он производил мелкий ремонт экспонатов, а в холодильнике, в ожидании ножа чучельника, хранил материал – шкуры и тушки зверей и птиц, добытые по случаю или преподнесённые в дар заведующим кафедрой, иной раз промышлявшим ружьём. Там, в каморке, либо за закрытыми дверями музея, среди витрин, Демьян Ильич отсиживал рабочие часы в первобытном одиночестве, как Адам в объятом мёртвым сном Эдеме.
– Затмение какое-то… Из головы вон… – каялась лаборантка Лера, и ресницы её за стёклами очков взмывали и опускались, как перья опахала.
– Нет, не затмение, – гремел Цукатов. – Хуже – халатность, чёрт дери.
– Казните меня, казните – виновата…
– Из всех паразитов, пожирающих человека, после предательства, я больше всего не терплю червя халтуры – плохо сделанную работу, выдаваемую за сделанную как надо, – выговаривал профессор Цукатов Лере за скверно составленную заявку на реактивы, материалы и лабораторную посуду. – Внутри меня разливается чёрная желчь, когда я вижу на экране какие-нибудь «Войны жуков-гигантов». Да, первоклассная техника. Да, отличная съёмка. И что же? Там есть пауки и сверчки, богомолы и скорпионы… есть осы и муравьи, сколопендры и кузнечики… есть, чёрт дери, крабы и тигровые пиявки – нет только жуков-гигантов! Вообще никаких жуков! И вместо толкового комментария – полуграмотная трескотня! Деляги от профессии, тягающие карася на стороне! Их пожрал червь халтуры! Развратила аудитория невежд, не только не желающих учиться, но требующих низведения знания до собственного мышиного уровня!
Доктор биологии профессор Цукатов был паразитологом, крупным специалистом по нематодам. Черви грезились ему повсюду и во всём. За годы работы нематоды, эти крошечные создания, свили гнёзда в его мыслях, разрослись до огромных размеров и набрали такой вес, что они, эти мысли, отяжелев, плыли по глади его сознания, как плыли по Ладоге в строящийся Петербург баржи, гружённые карельским гранитом, – медленно и неотвратимо. Уже сами мысли казались ему червями, паразитирующими в человеке и заставляющими хозяина действовать сообразно их, червей, нуждам.
– Я поняла, я всё исправлю… – хлопая пушистыми ресницами, каялась статная Лера. Она была виновата, но считала, что заслуживает снисхождения – её измотал затеянный дома ремонт, который, как ей казалось, и стал виновником этой несмертельной промашки. – Два эксикатора, пипетки, пробирки с крышкой шестнадцать на восемнадцать, парафиновая лента, этилацетат, серный эфир…
– Серный эфир не надо, – поправлял Цукатов.
За окном кабинета заведующего кафедрой зоологии шёл первый в этом году снег. Он запорошил двор, облепил огромные дубы, поднявшиеся выше четвёртого этажа, и кружил над чёрной водой Мойки, страшась коснуться её посверкивающего опасного глянца. Летом зелёные кроны закрывали часть пейзажа, и воды не было видно. Сейчас, пока ещё не схваченная льдом, она чернела за ветками деревьев и оградой набережной, медленная и покатая. В сочетании со свежей охрой зданий чистый снег выглядел празднично, как в памяти детства.
Взгляд Цукатова ещё сверкал, но буря отступила – дух праведного гнева покидал профессора, возвращая его в обычное состояние педантичной строгости – не ищущей жертву нарочно и даже добродушной по существу. Цукатов заведовал кафедрой, но он был мужчиной, крепким и нестарым, и, как мужчина, готов был прощать женщине за приятность форм грех мелкой нерадивости.
– Пробирки центрифужные, бюретки с краном, стрип-планшеты, – бормотала Лера, – пинцеты гладкие и пинцеты с зубом, спирт, серный эфир…
– Серный эфир не надо, – терпеливо поправлял Цукатов.
Дверь кабинета без стука отворилась, и на пороге появился профессор Челноков – приземистый, плотный и, несмотря на давно разменянный седьмой десяток, по-юношески энергичный. Он только что отчитал пару и был возбуждён от влившихся в него токов молодых энергий. Известный орнитолог профессор Челноков любил общаться с молодёжью, и молодёжь отвечала ему взаимностью – добрых шесть поколений студентов звали его между собой Главптица. Челноков мог похвастать отличной памятью, но со временем свойства вещей начинают хромать – он помнил кучу историй из своей и чужой жизни, однако порой забывал, кому и сколько раз их уже рассказывал. В своё время Цукатов учился у Челнокова и тоже за глаза называл его Главптица. Теперь Цукатов делил с ним кабинет заведующего кафедрой, рабочие столы их стояли рядом на низком, в одну ступень, помосте у окна, отгороженные от остального пространства шкафом и невысокой деревянной балюстрадой. Соседство их сложилось хоть и вынужденно (в кабинете Челнокова шла какая-то нескончаемая перестройка), но по взаимной приязни. Кроме того, в недалёком прошлом Челноков сам заведовал кафедрой зоологии, однако по причине возраста оставил должность.
– А ведь у нас в музее – ни одного пгиличного пгимата. То есть э-э… человекообгазного, – изящно картавя, вернулся к прерванному лекцией разговору Челноков. Речь шла о том, как наилучшим образом использовать на нужды музея внезапно образовавшиеся деньги. – Сплошь макаки и пгочие мелкие хвосты. Ни гогиллы, ни огангутанга. Пгекгасного и гыжего, как мандагин. Нехогошо.
– У нас много чего нет, – сказал Цукатов. Сам он предполагал усилить экспозицию рептилий и подумывал о слоновой черепахе с далёких Галапагос. О чём и сообщил.
– Слоновая чегепаха нам кто? Сват? Бгат? – парировал Челноков, извлекая из шкафа, приспособленного под буфет, банку с кофе. – А шимпанзе – годня. Можно сказать, шестая вода на киселе. – И тут же Лере: – Будешь кофе?
Цукатов сжал губы в нитку: он был сторонником иерархии, не любил смешение чинов и с подчинёнными, как и с начальством, предпочитал оставаться на «вы», рассчитывая, что и те в ответ не допустят в его отношении панибратства. Особенно начальство. С какой стати? Профессор Цукатов расположения начальства не искал, знал себе цену и считал её высокой.
– Нет, – продолжал воодушевлённо Челноков, – в пегвую очегедь надо думать о пгиличном пгимате. Э-э… человекообгазном. Быть может, даже выгогодить угол под семейное капище – как в китайской фанзе. – Челноков уже фиглярил. – У меня дочка летала в Цзянси. Э-э… Китайцы у себя дома, в специальном уголочке, на капище с пгахом пгедков агоматы кугят… и говогят с ними, с пгедками, по-китайски о насущных делах. Девицы о женихах, – Челноков подмигнул прыснувшей в ладошку Лере, – отцы семейств о видах на угожай и о газумном газмещении валютных вкладов…