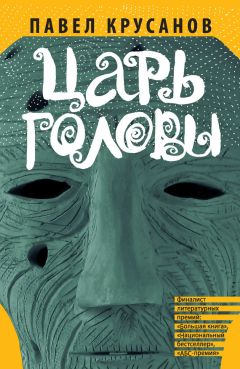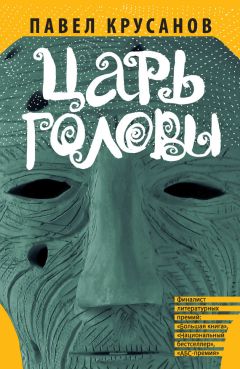Между тем на Верхний сад спустились бледные тени, и в шатре зажглись лампы.
Чугунов с Калюкиным изрядно набрались и громко о чём-то спорили, дымя одну сигарету за другой. Никодимов тоже чувствовал приятное опьянение, но вполне себя контролировал.
Юбиляр с бокалом вина по очереди обходил столы и, принимая поздравления, чокался с гостями. Долго задержался возле Пустового – тот пил как-то неумело, без должного ритма, и мешал напитки точно школьник. С таким усердием до сладкого он мог не дотянуть.
Когда Услистый наконец добрался до стола Никодимова, каре ягнёнка было разбито наголову. Чокнувшись с тестем и тёщей, юбиляр о чём-то коротко пошутил с Чугуновым и Калюкиным – общение затруднял вопиющий разлад: те были пьяны, шумны, фамильярны, Услистый же, напротив, – трезв и бдительно держал дистанцию. После них Услистый подошёл к Никодимову и поблагодарил за речь:
– Хорошо сказал. Нарисовал, как на картинке. Я уже забывать стал…
Следом за Услистым у стола возникла Вика и защебетала с родителями.
Воспользовавшись всеобщим воодушевлением и шумом (говорить приходилось громко, сквозь барабаны и гитарный звон «Краденого солнца»), Никодимов встал из-за стола и отвёл Услистого в сторону.
– Скажи, – спросил он, – зачем это тебе? Ну, Мешок этот. Хочешь новые деньги поднять? Развить дар преступного красноречия?
Услистый взял Никодимова за локоть и посмотрел в глаза с таким видом, словно доверял страшную тайну.
– Что деньги? Тьфу. Этого добра мне уже хватит. Куда ещё? Бумажки копить – пустое дело. Сегодня они – сила, а завтра могут прахом обернуться. Не знаешь разве? Пульджи объяснит. Опять карбонарии мистерию Страшного суда замутят, и скопленное добро станет злом. Брать надо то, что круче денег.
– Что же это?
– Власть. Или искусство. Я хочу брать искусство. Настоящее, живое, а не то, которое кураторы вислоухим втирают. Настоящее, оно – те же деньги. Только лучше. Ему, настоящему, ни инфляция, ни дефолты, ни Страшный суд – всё нипочём. Оно всегда в цене. И цена эта растёт. Вот где капитал.
– А Мешок при чём?
– Так с ним, дорогой ты мой, я это самое искусство за малые деньги возьму. Вон, видишь его? – Услистый показал глазами на Ивана Пустового, который с бледным видом перекладывал белое вино коньяком. – Я ему три года стипендию платил, пока он в Германии ума набирался и ловил волну. Теперь мастерскую здесь, в Питере, ему снимаю и опять же стипендию даю, так сказать, на поддержание штанов. Поверь, он уже сейчас блистает. А что будет, если у него Мешок света окажется?
– Как же он у него окажется?
– Да очень просто, – удивился Услистый, – я ему и дам.
Невольно Никодимов посмотрел на карман, в котором Услистый держал кисет. Брюки не оттопыривались, как должны были, будь вещица там. Мешка света у Услистого не было. Тот заметил взгляд Никодимова и ухмыльнулся краем рта.
– А тебе-то что? – Никодимов комбинацию не понял.
– Балда ты, Андрюша, стоеросовая. Германия, мастерская, стипендия – это ж не за здорово живёшь всё. У меня с ним контракт подписан, честь по чести, ни один крючкотвор не докопается – сам составлял. И по контракту этому все его картины, которые он накрасит за десять лет, мне принадлежат. Все до единой.
Никодимов смотрел на Услистого со смешанным чувством восхищения и ужаса.
– И он согласился?
– Ну, ты чудак, – вздохнул Услистый. – Да он ещё считает, что меня надул. Сладкую жизнь, думает, себе за счёт лоха московского устроил. А у меня своя арифметика. Его работы сейчас, скажем, по две-три тысячи зелёных идут, и то не влёт. Но он на подъёме, его чуть продвинуть только… А с Мешком света, считай, он на космическом старте, как Гагарин на Байконуре. Сегодняшние две тысячи зелёных через десять лет, быть может, уже ничто будут, грязь. А холст Пустового с каждым годом жирком завязывается. Через десять лет он уже – состояние, и чем дальше, тем сало толще.
Никодимов молчал, поражённый. Что бы ни говорил этот деляга, а вся комбинация упёрлась в деньги – с них началось, ими кончилось. Он так не умел. Услистый, довольный произведённым впечатлением, признался:
– Я раньше просто покупал… Ну, те картины, которые во мне душевный нерв щипали. В Москве у меня будешь, увидишь – все стены завешаны. Но тут иной раз и не угадаешь… А с Мешком света – верняк. Я себе – при нулевом риске – такой процент на рубль вложения нигде не возьму.
– А что через десять лет?
– Что? – не понял Услистый.
– Ну, вышел контракту срок, – пояснил вопрос Никодимов, – дальше что?
– В перспективу смотришь, молодец. – Услистый кивнул официанту и приподнял пустой бокал, официант подскочил и мигом наполнил бокал вином – Услистый указал каким. – А в чём беда? Предложу продлить. Не согласится – Мешок света назад, из мастерской вон, и никаких от меня денег. Он уж не пропадёт, на заработанном авторитете выползет. А я по тому же чертежу с новым мазилкой работаю. Талантами земля наша не скудеет.
Музыка гремела. Рыжий пел. Гости выпивали и закусывали.
– Что ж, цинично, без соплей… – Никодимов посмотрел на покинутый гудящий стол. – Хорошо – Пульджи старый, да и графика, вроде как несолидно… но почему Пустовой, а не Чугунов?
– Чугунов тоже не юноша, – тут же уловил мысль Никодимова Услистый. – К тому же он – с идеями. Эти бунтуют и капризы у них – не угадаешь. Короче, одна морока.
Голый расчёт, ничего лишнего. Никодимов был сражён кристальной чистотой мысли – ни тумана рефлексии, ни сомнения смущённых чувств… Алмаз – одно прозрачное как слеза целесообразие.
Тут к мужу подпорхнула сияющая Вика.– Как всё чудесно, я не ожидала! Все в восхищении!.. Андрюша, что ж ты без жены?
Когда музыка стихла, помятый пригласил гостей пройти в Нижний парк на «потешный вызвездень». Заинтригованные гости шумным ручейком просочились сквозь дворец и скопились на огороженной балюстрадой площадке над гротом и Большим каскадом. Помятый взмахнул рукой, и в тот же миг зашумели струи фонтанов, из пасти льва, терзаемого Самсоном, вырвался двадцатиметровый белый столб, и разом в небо устремились цветные огни фейерверка. Всё же были, были, были у Услистого ключи на все замки…
Гремел и сиял «вызвездень» здорово – цветная шрапнель и фонтаны в бледной ночи хорошо дополняли друг друга. Никодимов смотрел то в сад, то в небо и не знал, где лучше. И вместе с тем… чёрт подери, нет – в нём зрело раздражение. Не просто раздражение – протест. «Так не должно быть», – ворочался в его хмельной душе червяк досады. Всего этого не должно было быть здесь, в этом месте, как не должно быть кровососов в Эдеме. Все ликующие гости, часть которых спустилась по лестнице вдоль каскада в сад, казались ему самозванцами. Он сам был таким. Но бо́льшим, наисамозваннейшим – Услистый. Холодным жалом Никодимова гвоздила мысль: «Гад буду, а не выйдет по его. Хрен с коромыслом – нет, не выйдет».
Когда вернулись в шатёр, столы преобразились. Всё было сервировано под чай, но бутылки стояли на своих местах. Посреди шатра на отдельном столике возвышался торт. Не торт – многоярусная архитектура со слоями, размещёнными на этажерках. Никодимов посмотрел и ахнул. Вот он, «дом Нимврода»… Перед ним была Вавилонская башня, возведённая по проекту архитектора Питера Брейгеля-старшего – над ней вся никодимовская фирма колдовала два дня, и сегодня утром её забрали самовывозом. Ярусы состояли из миндального бисквита с ликёро-сливочной пропиткой, суфле из свежего манго, сметанного крема и кусочков клубники. Снаружи галереи и арки были изображены при помощи кондитерской мастики и шоколадной глазури. Верхний ярус представлял собой строительный беспорядок из воздушно-ореховых меренг, кремовых глыб и шоколадных провалов – башню, как известно, не достроили.
Помятый, осуществляя какие-то речевые имитации, острил по поводу смешения языков. Женщины, глядя на сладкую архитектуру, хлопали в ладоши.
Никодимов огляделся. Веселье катилось дальше, набирая обороты: гости с шумом рассаживались по местам, музыканты «Краденого солнца» во главе с рыжим солистом, навёрстывая, хлестали в отведённом им углу водку, Чугунов с Калюкиным бродили с рюмками от стола к столу, Пульджи изучал винные этикетки, родители Вики пересели за стол к имениннику и вели с ним оживлённую беседу, на сцене настраивала звук банда бородатого Налича. Пустового нигде не было.Выйдя из шатра, Никодимов изучил окрестности. Перед ним играл тенями сумрачный парк. Он посмотрел направо, посмотрел налево. Так и есть – Пустовой недотянул до сладкого. Метрах в пятидесяти от шатра в прозрачной ночи виднелась скамья, художник Иван Пустовой лежал на ней, свесив лицо к гравийной дорожке. Ему было плохо. Рядом с ним, посверкивая металлом на бровях и крыльях носа, сидела цыпа в мелких косицах и вытирала лицо Пустового платочком, который смачивала водой из бутылки. Бутылка была уже почти пуста. То тут то там в парке виднелись и другие бледные фигуры – разброд и шатание, кажется, начались прежде расписания.