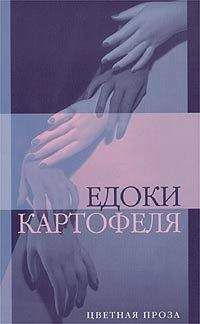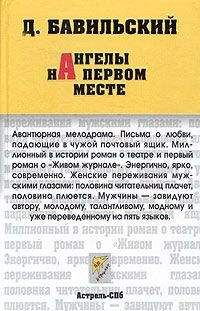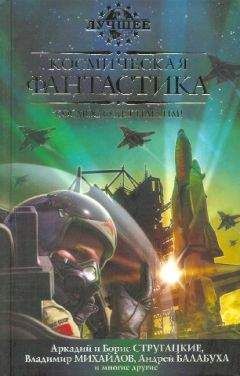– Когда я думаю о ней, то никогда не могу вспомнить её преданного лица…
– Морды, – поправил её Данила. До дома осталось – рукой подать.
– Да я про другое, как у неё в глазах отражаются движения желаний, заложником которых она, невинная, является. Понимаешь, Данила, о чём я?
– Пока нет.
– Я же понимаю, что у неё нет ни одной мысли, она представляет из себя такую живую, подвижную машину, производящую желания. Понимаешь?
Я сбивчиво объясняю, да?
– Типа того. Но твоя собака – вегетарианка. Разве отказ от мяса это не есть её сознательный выбор?
Перед подъездной дверью они остановились, Данила не стал заходить внутрь, повернулся и побежал к остановке.
Прежде чем подняться в квартиру, Лидия Альбертовна некоторое время стояла возле вонючего лифта. Приходила в себя.
Под расплавленным желтком тусклой лампочки, качество которой не позволяло покуситься на неё даже самым лихим и жадным людям.
На следующий день Данила пропал.
То есть не пришёл, как обычно, к концу рабочего дня, не позвонил вечером, не предупредил.
Не дал знать.
Лидия Альбертовна поняла, что не знает, где его искать, что даже телефона не знает.
Возникло свободное время.
Никогда раньше не задумывалась, откуда свободное время берётся, куда исчезает, бездумно шуршала по хозяйству, всегда казалась загруженной по горло: домохозяйка и мать семейства.
А тут целая воздушная подушка.
Пришлось пораньше вернуться домой.
Затеяла стряпню.
Избывала энергию, взбивая тесто.
Рядом тёрся и плотоядно мурлыкал Мурад Маратович.
Как-то отстранённо взглянула на мужа: интересно, а чем же он все эти дни напролёт занимается?
Ведь ни для кого не секрет, что уже давно ничего не сочиняет.
После того, как закончил ораторию про Чернобыль.
Тихо существует в колодце прокуренного кабинета, небритый и уравновешенный.
С прохладными, худыми ладошками, которые всегда трогали её осторожно, точно цветок.
Тесто быстро подошло.
Где это он может быть?
Неужели что-то произошло?
Несколько раз ходила в комнату к сыну, смотрела на его заваленный бумагами стол, не решаясь вмешиваться в непонятный порядок, молча стояла, пытаясь разгадать отсутствие Данилы, как-то связать его с отсутствием Артёма.
Может быть, протереть на его книжных полках пыль?
Нужно же что-то делать!
Поздно, часов в 11, пришёл Артём с пивом, закрылся у себя в комнате, угрюмый, демонстративно искал в холодильнике закуску
(огурчики-помидорчики), значит, уже датый, определила Лидия Альбертовна.
Артём всегда злой и агрессивный, если не допьёт.
Нет, лучше не тревожить.
Не спрашивать.
Приготовила начинку, разогрела плиту, смазала маслом большую сковородку.
Открыла форточку, ворвался ветер.
Лучше не спрашивать.
Так странно: ещё совсем недавно всё складывалось совершенно по-другому, а теперь кажется и не может быть иначе: Данила…
Так хорошо, так странно…
Хотя чем всё это закончится?
Никогда раньше не думала.
А тут передышка, остановка в пути, значит.
Постоять, подумать.
Лепила из теста незатейливые пирожки, в висках билась, пульсировала одна и та же тревожная мысль.
Материнский инстинкт, материнское отношение: Данила для неё тоже как сын. Сынок. Сыночек.
Сладкий сироп нежности разлился внизу живота, вспотел, выступил крупными каплями, мыслями выступил зудящими.
Усилием воли успокоилась. Поборола инстинкты.
Поставила пирожки на огонь.
И вдруг по радио объявили, что по чьей-то там заявке сейчас будут передавать песенку группы "Смашин пампкинс". Той самой, про которую
Данила говорил недавно.
Такая тягучая, лирическая мелодия, длинная, с гармоничными гитарными рифами, с потусторонним голосом солиста.
Группа, которой больше нет.
Та, что распалась.
Точно застыла над плитой. Точно хрустнуло что-то внутри.
Надломилось или разбилось даже.
Еле дождалась конца композиции.
Еле дождалась, пока первая порция пирожков подрумянится.
Схватила поднос, накидала кучку, пошла к Артёму в комнату.
Постучалась.
Он же не любит, когда к нему без спроса.
Поставила на столик.
Как же спросить?
Что сказать?
– А Данила сегодня заболел. Простыл, что ли, – проявил инициативу
Артём.
Точно почувствовал.
Угадал.
Неужели так заметно?
– Понятно-понятно, – сказала Лидия Альбертовна, точно так и надо.
Как будто они каждый день о Даниле разговаривают.
– Надышался вчера, видимо, холодным воздухом… – сказал сын.
– Да-да, он провожал меня вчера. Предложил почему-то, – ответила мать. Для верности пожав плечами (хотя Артём сидел спиной к ней).
И поспешила выйти.
Вон.
Чтобы остаться на кухне наедине со своими мыслями.
Значит, жив. Значит, всё хорошо. Всё нормально. Застудился, мальчик мой, малыш мой, маленький, сладкий мой апельсин.
Низ живота прострелила новая молния истомы.
Но на кухне суетился Мурад Маратович. Схватил со сковородки горячий пирожок, пытался надкусить пышущий жаром комочек текста, из которого вытекала жирная, наваристая юшка.
Возле его ног суетилась в ожидании подачки собака-вегетарианка.
Смотрела умными, полными слёз и немого достоинства глазами, ждала.
Ну, чисто машина желания.
Лидия Альбертовна улыбнулась.
Измученно.
ВАН ГОГ – II (вид сверху)
Вообще-то мог бы и позвонить, мысленно ругалась Лидия Альбертовна. И тут же спохватывалась: куда? В зал? По внутренней, что ли, связи?
Вокруг шумели любопытные школьники, над ними, точно курица над цыплятами, раскинула крылья софизмов Марина Требенкуль. А ведь по ней не скажешь, что страдает, неожиданно умиротворённо подумала
Лидия Альбертовна вдогонку фонарикам ускользающих мыслей. Сегодня
Марина снова пахла, как немецкий солдат.
Однако взгляд её снова зацепился за одно из вангоговских творений, и в голове будто бы опрокинулся чан с крутым кипятком, чёрт подери, как же всё это меня раздражает своей неприручаемостью, своей дикостью. Чёрная, ободранная кошка с колючими, ненормальными глазами.
Ожесточённая, она набралась смелости, подошла к одному из небольших холстов. Мазки кровоточили. Густая, свернувшаяся уже кровь и лимфа, бурлящие в сосудах едва нацарапанного художником сюжета, разбегались по картине в разные стороны, шуршали по старым, заплесневевшим от времени венам. Лидии Альбертовне захотелось расплакаться. Но она не сдалась. Только перешла к следующему экспонату.
Настроение скакало, мгновенно переливаясь в противоположность.
Сердце стучало, готовое вырваться наружу. Но она не отступилась.
Вот, и снова то же самое: и на этой картине реальность переживала невидимые тектонические сдвиги, разломы, её точно гнуло и корёжило.
Казалось, в ней сосредоточена боль такой силы, что голова идёт кругом, попутно вызывая самые неприятные ощущения: тошноту, рвоту, сильное опьянение, менструальные колики. Зачем же нужно столь чудовищное самоистязание?
На следующем пейзаже, к которому Лидия Альбертовна подошла совсем вплотную, она вдруг заметила оставленные художником вихри. Складки эти казались мятыми, рваными, потрёпанными недоеданием и недомоганием. Дистрофики, пробегающие на заднем фоне, между растрёпанных деревьев, показались ей сплющенными невидимым давлением: искажённые тела и лица беззвучно вопили, взывали из толщи застывшей, сковавшей их красочной массы.
Лидия Альбертовна была близка к обмороку. Отрыжка пространства, расплёсканного по полотну, расхлябанная реальность, однажды выпавшая из пазов, наезжали на неё, чавкая, пытаясь всосать внутрь.
В ужасе Лидия Альбертовна отпрянула, попятилась спиной, села на рабочий стульчик, закрыла глаза, обливаясь потом и упиваясь тишиной, которая возникает, если глаза сильно-сильно сжать. Тогда ты погружаешься на недосягаемую глубину, где только и возможен истинный покой.
Ей действительно стало плохо, некоторое время она сидела, прислушиваясь к токам тела, потом вдруг вскочила, побежала в уборную. И что там она делала, описывать не станем.
Столкновение с чужой, чуждой сознанию системой зрения состоялось.
Ничего хорошего этот контакт не сулил, до окончания выставки же ещё целый месяц!
Экспозиция пользовалась повышенным интересом у горожан, и областное начальство вышло к владельцам и устроителям ретроспективы с инициативой о продлении экспозиции (что стоило областному бюджету всех средств, выделенных на пособия матерям-одиночкам). Узнав об этом, Лидия
Альбертовна едва не задохнулась от негодования, переходящего в бессилие.
Надо помнить, что её Ван Гог возник после долгого сидения в зале малых голландцев. И в разнообразии сюжетов его картин, многие из которых описывали грубый крестьянский быт, она находила параллели с жанровыми картинами и портретами 17-18 веков, вылизанными, и покрытыми лаком, блестящих точно иллюстрированные журналы.