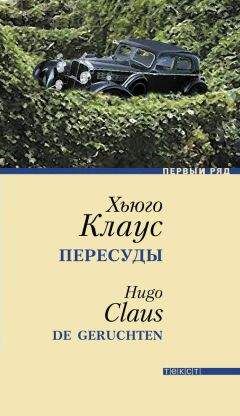Нашу Диану успокаивает вид Е.П. Дилса, удаляющегося на велосипеде в сторону Ауденаарде. Потом она слышит знакомые легкие шаги — вниз по каменным ступеням, в сторону гостиной. Хлопает дверь. Она сбегает вниз. Прямо в ночной рубашке. Что-то случилось с моим повелителем, сердце не выдержит, если с ним что-то случится, я должна оберегать его от опасности, пусть он мирно покоится в моих объятьях, даже если меня одолеет сон.
Он, в длинных черных сатиновых трусах, сидит в честерфилдовском кресле, разведенные колени покрыты пледом. Во рту торчит незажженная сигара.
— Остались ли высокочтимые гости довольны?
— Я верю и надеюсь, что да.
— А ты?
— Ах, Диана, — говорит он, и она чувствует, как приятно Преподобному произносить вслух ее имя.
— Как понравилось высокочтимым гостям Domaine de la Gautière?[69]
— Вызвало интерес.
— Только-то?
— Нотариус считает, что оно недостаточно горячит кровь.
— Оттого, что виноградники Domaine de la Gautière расположены на севере!
— Не кричи так.
— Зато оно бодрит. Ему что, хотелось вина из перезрелого винограда? Сама я, Ваше Преподобие, нахожу, что у него богатый букет.
— Но я тоже считаю, что мы за него переплатили.
— Ни единого франка. Просто в тот год урожай был вдвое меньше, чем обычно.
— А Дилс сказал о Domaine de la Gautière…
— Ваш Дилс, вице-прелат, слишком много о себе понимает. Что же он сказал?
— Слишком крепкое.
Наша Диана сердито сопит:
— Тринадцать и шесть десятых процента алкоголя. Это для него крепко? А как насчет Riesling de Beyers?
— Пьется легко, но ничего особенного.
— На них не угодишь, — комментирует наша Диана, отпивает чуть-чуть Hermitage de Chave и, продегустировав, проглатывает. Плед соскальзывает с колен ее повелителя.
Она видит пятна, покрывающие его ноги. Она не вскрикивает.
— С тобой это тоже случилось, — говорит она с нежностью, опускаясь на колени перед своим заклейменным господином, ставит его ноги в эмалированный тазик и горячей салфеткой проводит по больным икрам. Как Мария Магдалина, думает она.
Доктор Вермёлен сделал Преподобному несколько инъекций, и пятна вроде бы побледнели.
Е.П. Ламантайн возблагодарил Бога, помолился, навел порядок в своих денежных делах, сам наложил на себя послушание сдержанности в отношении французских вин, напился воды из-под крана и весь вечер провел в саду, любуясь Млечным Путем. Как часто ни осознавал Преподобный ничтожность человеческой жизни, на этот раз ему стало чуть-чуть страшно. Ощущение дискомфорта не оставляло его весь вечер, чудилось что-то зловещее, словно некто, находившийся одновременно в саду, на улице и вообще везде, угрожал ему карой за что-то случившееся в прошлом. Вдруг тень метнулась к гаражу и затаилась позади автомобиля. Главное не паниковать. Преподобный заложил руки за спину и принудил себя еще некоторое время смотреть в небо. Потом не спеша, с достоинством направился к двери, ведущей в кухню. Оказавшись внутри, он прижал ладонь к груди, к бешено колотившемуся сердцу. Позвонить в полицию? Разбудить Диану? Сколько раз этот жуткий Блауте советовал ему завести пистолет, заряженный газом (нервнопаралитическим? или, может, веселящим?). Спокойствие. Преподобный поставил на проигрыватель пластинку, музыку своей тайной любви, Людвига ван. Подумал: «Это мой дом, мой сад, мой автомобиль» — и, почти совершенно ободрившись, вышел в сад — на цыпочках, держась в тени. Тощий парень, склонившись у двери его машины, со скрежетом ковырялся в замке.
— Добрый день. Вернее, добрый вечер, — поприветствовал пришельца пастырь.
Пришелец, похоже, был солдатом: прямые плечи, коротко остриженные пепельные волосы, ноги расставлены. Он выпрямился, сунул что-то в карман штанов и, повернувшись, выставил правую ногу вперед; высокие башмаки его были заляпаны желтоватой грязью. Лицо, не лишенное приятности, портили только густые, сросшиеся брови.
— Когда-то я был одним из лучших, — произнес парень с антверпенским акцентом. — Сотню машин открывал на раз. Но пальцы теряют сноровку. Как и все остальное, да?
— А зачем тебе моя машина?
— Одолжить хотел. Клянусь. Ты получишь ее назад без никакой царапинки.
— Ты — из Антверпена.
— Почти, из Бургерхаута.
Надо выглядеть мужчиной в глазах этого несчастного грешника, подумал пастырь.
— Я должен смотаться в Бургерхаут, — продолжал грешник, словно они беседовали у стойки бара. — К подружке. Звать Милка.
Милка. Ну и имечко: так обычно называют телок или уж очень глупых девок. Глупа, но мила.
Преподобный поскреб горло, надо бы сказать что-то успокаивающее, чтобы спасти и себя, и его от неминуемой конфронтации, которая может привести к кровопролитию. Но я — трус перед лицом мародера.
— Мне пора исчезнуть, — продолжал мародер. — Я уже понял. Здесь мне не жить. Все на это указывает. Надо сказать adieu Милке и моему здешнему другу.
— Катрайссе?
— Рене Катрайссе. Ему-то придется остаться. Он помирать приехал.
Возможно, он фельдшер, какое у него утомленное лицо, как печально опущены уголки губ.
— Что это там у вас играет — не номер Пять, А-мажор? Менуэт? — спросил фельдшер.
— Да. Вариация в а-мажор Моцарта. Четыре инструмента вступают одновременно, для ранних работ Бетховена — большая редкость.
К тому времени, когда я должен был произнести формулу отпущения грехов, последние из молившихся у гроба покинули церковь. Потому что он тоже пришел, чтобы умереть.
Они слушали четвертую часть, allegro, и храп Дианы.
Потом парень заговорил:
— На мне ни пятнышка. Можете осмотреть меня всего, с головы до ног. Объясните мне, вы, специалист по грехам и искуплению, почему заболел Рене Катрайссе, а не я. Я больший грешник, чем он, гораздо, гораздо больший. Почему милосердие не простерлось над ним, почему оно избрало других: его брата, его отца?
— Его мать.
— Нет, мать — нет.
— Нет? — спрашивает пастырь, не чувствуя желания простить его, лишь болезненное стеснение в груди, и прижимая ладонь к бешено колотящемуся сердцу. — Выходит, во всем виноват Рене? — с трудом произносит он.
— А кто не виноват? Просто один виноват больше, другой — меньше, но какая, собственно, разница? Ладно, пошли.
— Куда? (На плаху.)
— За ключами от машины.
— Они на кухне. — Пастырь двинулся к дому. — Осторожно, здесь плитка плохо закреплена.
На кухне Шарль сунул в карман куртки бутылочку Mont-Redon. И получил ключи от автомобиля из дрожащей руки хозяина.
— Ты, — сказал Шарль, — не очень-то достойно выглядишь, — и пошел к автомобилю, по пути бросив застывшему на ступенях Е.П. Ламантайну: — Послезавтра машина будет на парковке у станции Дёрне. Клянусь, клянусь!
Скерццо.
На другой день Е.П. Ламантайн отправляется в лавку, расписанную свастиками.
— Что за вид у вашего дома, Альма, надо бы почистить стены!
— Никогда.
— Это выглядит, как провокация. Я и не знал, что ты окажешься такой упрямой ослицей.
Она угощает его metserke, слабым геневером для каменщиков, которые в изобилии потребляют его, чтобы согреваться холодными зимами, не опасаясь свалиться с лесов.
— Рене? Я не имею на него влияния, — говорит Альма, — и никогда не имела. И потом, в его состоянии…
— Нет такого состояния, которое нельзя было бы ухудшить.
Альма закуривает сигарету, горький дым напоминает о фразе «Табак ослабляет десны», которую Учитель Арсен послал как-то в «Варегемский вестник» на конкурс «Лучший слоган».
— Альма, я должен поговорить с Рене.
— Он в лесу.
— Вместе со злодеем Шарлем.
— Свежий воздух полезен. Да и сколько там времени ему осталось.
Входит Дольф с пучком порея.
— С собственного огорода, Ваше Преподобие, никакой химии. Нашей Диане должно понравиться.
— Благодарю, Дольф.
— Я землю, сколько мог, смыл.
— Альма, ты не осознаешь масштабов того, что натворил Рене.
Глядя в ее разом окаменевшее лицо, он не знает, что сказать.
Едва Дольф со своим пореем удаляется в кухню, пастырь выходит на улицу.
Его Преподобие Ламантайн взошел на кафедру конца восемнадцатого века, вознесенную над горсткой верных ему прихожан, двумя десятками пустых стульев и группой скаутов — восемью плохо воспитанными патлатыми мальчишками в заднем ряду. Дыхание выплывало изо рта Преподобного туманным облачком.
И вот что он сказал:
— Возлюбленные чада мои, однажды деревенский парнишка пустился в путь, и дорога увела его далеко от родных мест. Отец его и мать два года не видели сына, ибо, совершив ненамеренное убийство, сидел он в узилище. Рядом с ним находился человек или незримая сила, которую люди в ту пору назвали бы ангелом или демоном, и сила эта шептала юноше: «Зачем возвращаться в отчий дом? Ты теперь преступник, в доме отца твоего нет больше для тебя места. Лучше всего тебе повеситься на груше». — «Что ж, пожалуй, я поступлю по твоему совету», — отвечал юноша, закидывая веревку на ветвь груши. Как будто забыл, что самоубийство есть один из самых тяжких смертных грехов, который человек может совершить, ибо жизнь, чудеснейший дар Господень, ты с презрением швыряешь в Лицо Господу Своему. Но в этот миг свершилось чудо: вспомнил он о своей матери. Словно живую, увидел он ее перед собой, и она показалась ему такой огорченной, что он сорвал веревку с дерева и помчался домой. И мчался так быстро, что, добежав до родительского дома, запнулся и упал в навозную кучу. А мать как раз шла с кувшином к колодцу, набрать воды, и увидела она своего сына. А он, увидев ее, вскочил, ибо за два страшных года поседела и побледнела она. И в ужасе закричал он: «Мамуля, что я, дурак, сделал с тобой за эти бессмысленно ушедшие годы?»