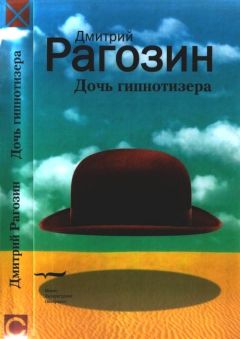Директор, покряхтывая, встал, обогнул угол стола, машинально похлопав по пути сияющую бронзу, подошел к окну и, не слыша длинных, путаных доводов, которыми его убеждал Лавров, раздвинул шторы. Он увидел внизу город — купола, башни, колонны, арки. Группа всадников в алых плащах ехала по мосту. На площади палач, голый, в кожаном фартуке занес топор, блеснувший на солнце.
Лавров ожидал от директора большей бодрости и злой иронии, а встретил скорее усталое раздражение, вспыльчивую брезгливость, скуку человека, которому не долго осталось повелевать. «Этак и мне не поздоровится!» — подумал он. Болтливая секретарша уже успела ему объяснить, что директор неизлечимо болен, что он вдов и бездетен, что ему постоянно что-то мерещится, что он богат и всесилен, но любит прикидываться бедным тружеником, что у него было тяжелое детство, гречневая каша, колючая проволока, портянки, пошел добровольцем, дослужился до командира артиллерийской бригады, брал города в огненное кольцо, однажды, между боями, выиграл в карты у командира армии машину, дачу, жену, драгоценности жены, взбирался неуклонно, безжалостно, стреляя направо и налево, даруя жизнь и отнимая свободу…
Директор вернулся за стол, уселся, вытянул ноги, хотел привычно бросить кости, но — рука повисла. Прямо с потолка потекло, впитываясь в сукно черным пятном.
«Я хочу поставить рекорд! — решительно закончил свою длинную, вымученную речь Лавров, — и прошу лишь об одном — не помогать мне, не подсуживать, не подтасовывать».
Директор сгреб разбежавшиеся кубики.
«Ну вот вы и обиделись, ай-ай-ай! — сказал он, улыбаясь и шутливо тряся пальцем. — Рекорд? Пожалуйста. Ставьте, когда и где угодно, лавровые венки на складе кажется, еще не все разворовали, я выясню…»
Он замолчал. Большая серая птица медленно парила вокруг люстры.
«Вы нуждаетесь в деньгах?» — директор выдвинул ящик стола, в котором лежали, он ясно видел, старая колода карт, пустая гильза, карандаш.
«Нет! — вспыхнул Лавров, — мне довольно того, что имею».
«Как угодно… — с легкой досадой директор задвинул ящик. — Вы знакомы с Птицыным?»
Голос его стал деловито-сухим.
«Да».
«Обращайтесь к нему, если возникнут непредвиденные трудности. Он не подведет. А вот с Лобовым знаться не советую. Озлоблен, глуп, подл. Из тех людей, которые не смотрят в будущее. Свяжетесь, потом не распутаетесь. Впрочем, вам видней…»
Директор еще раз встряхнул кулак и разжал пальцы. Опять три и три, ну что ты будешь делать!
«Вы, конечно, понимаете, — сказал он с неожиданной грустью, — что мы с вами уже вряд ли встретимся. Все, что я хотел услышать, я услышал, все, что хотел сказать, сказал. Отныне вы — спортсмен, а я — всего лишь послушный исполнитель высшей воли».
Он собирался еще что-то добавить, но распахнулась дверь, в кабинет шумно вбежали две девицы в купальниках, подхватили Лаврова, с визгом и хохотом запихали его в картонную коробку и унесли, шлепая босыми ногами по паркету.
Директор, сразу потемневший, осунувшийся, встал, подошел, не тронув бронзового кумира, к окну, угрюмо взглянул вниз на расстилающуюся перед ним бескрайнюю пустыню и сердито задернул штору.
Померещилось!
Затягивание затягивает. Худо-бедно прошла неделя с тех пор, как Лавров вернулся в спорт, а он еще не мог решиться и откладывал со дня на день начало упражнений. Слишком велика ответственность! То, что другому запросто сойдет с рук, сулило ему пожизненную кару. Промах стоил будущего счастья. Он по своему опыту знал, что эмпиреи прощают преступные замыслы, но казнят за случайную ошибку. От первого шага по проселочной дороге зависит, кто примет пыльного путника на ночлег: грубая, пованивающая селедкой русалка или нежная кикимора, отдающая земляникой и лесным клопом.
Бездействие делало его неуправляемым. Он лежал часами на кровати, ходил по комнате, из угла в угол, от окна к двери, равнодушно поглядывая на прекрасные груди тонущей княжны, прочитал несколько книг, Житие преподобной мученицы Киприллы, Краткий катехизис с присовокуплением избранных мест из поучений старцев, Невидимую брань, Самоучитель по умерщвлению плоти, даже примерил шутовской наряд, оставшийся в шкафу от прежнего насельника, тоска, тоска… Он почти ничего не ел, пил чай с черным хлебом. В столовую заглядывал перед самым закрытием, когда в котле оставались лишь комья жира. Его мучила бессонница. Гася свет, он всякий раз обещал себе утром сделать зарядку, хотя бы взмахи руками и приседания, но, проснувшись, понимал, что никакая сила не заставит его выполнять эти нелепые телодвижения, которые если и укрепляют здоровье, совершенно бесполезны в рассуждении истинного спорта. Лавров презирал любителей. Праздность свою оправдывал грядущими подвигами. А что еще оставалось делать, когда, пройдя через мясорубку ночи, он получал себя в виде старого дырявого сачка для ловли бабочек или еще того хуже — надломленного удилища с порванной леской, без крючка, без грузила! Он уповал на чудо.
Проделав в тысячный раз путь от двери, запертой на крючок, до голого окна (смотритель божился, что на складе нет занавесок, ни в цветочек, ни в полоску, вообще ничего, кроме противогазов), он смотрел вниз на перламутровые дорожки, по которым прополз дождь, на кривую скамейку, на грузовик с брезентовым верхом. Как было бы хорошо пробежаться трусцой мимо футбольного поля, мимо этого бетонного корпуса, под старыми липами, роняющими желтые листья, даже если опять начнет моросить, по лужам, вдыхая свежий сырой воздух, прислушиваясь к шуму машин, проносящихся за оградой! Увы, не мог он себе позволить такой слабости. Любое преждевременное появление на публике грозило постыдным фиаско. А он не сомневался, стоит ему сбежать с крыльца, как все, кто бы ни был в спортивном комплексе, побросают свои гантели, мячи, обручи, слезут с турников, остановят бой и прилипнут к окнам, выбегут на балконы, заберутся на крышу, чтобы посмотреть с долгожданным смехом на его ковыляющую, прихрамывающую фигурку. Да, приходится сидеть безвылазно, а как было бы хорошо!.. Лавров отошел от окна и опять повалился на кровать, закрыл глаза.
Интересно, что сейчас поделывает Лиля, думал он, наверно, уже догадалась, куда я пропал. С этим у нее в порядке. Знает все, что скрывают, бедняжка. Конечно, он поступил дурно, не попрощавшись. Но, во-первых, он никогда не брал на себя обязательств, уступая ей «ну так уж и быть», с тем чтобы потом не попрекала, ложился под, мол, я тебя не насиловал, сама насела. Во-вторых, он не скрывал, что рано или поздно нарушит свой зарок навсегда уйти из спорта. То, что это произошло неделю назад, а не неделю вперед, ничего, Лиля, не меняет. Разве я виноват, что судьба меня подбила? Что в безысходном своем положении я нашел смысл своей пропащей жизни? Ну как еще тебе объяснить? Допустим, я собираюсь в путешествие, покупаю билет на поезд, набиваю чемодан, не забыв сунуть деревянную куклу, запираю квартиру… Нет, не то… Представь, что какая-нибудь твоя подруга ночью, не гася свет, раздевается у окна, надеясь, что ее увидит кто-то из проходящих внизу, при том что она никогда не узнает, кто это будет и будет ли кто-то вообще… Опять не то!.. Положим, я встаю на улице в очередь, даже не спросив, а что собственно продают — яблоки, груши или, может быть, сельдь пряного посола, опасаясь, что замешкавшись, упущу свое счастье и мне не достанется ничего… Нет, сколько ни объясняй, не растолкуешь. Когда женщина не хочет понять, как об стену горох!
Привыкший бесцеремонно пользоваться Лилиной близостью, Лавров теперь с ужасом испытал, как сильно он от нее зависит. Мало-помалу она подчинила его с головы до пят своим стыдливым желаниям. Всегда под рукой, она не позволяла ему остыть. Его мужские мечты о поражениях и победах она исподволь запрягла в волок обыденной жизни. Бормотала беззвучно, с запаздывающим жестом: «Я люблю тебя жалкого, ничтожного, беспомощного…» Лавров ставил ей в вину не только то, что она легко подменила собой погибшую сестру, казавшуюся незаменимой, но и что ревниво удерживала от всего, дающего ему шанс отличиться (и отлучиться). Хватит! Он докажет ей, себе, всем, что ему суждено бессмертие. Будни — долой! Он добьется своего. Недаром смотритель, этот доморощенный логоцентрист, намекнул, что его здесь ждали со страхом и неприязнью. Как бы ни пытались ему помешать, он поставит рекорд, пусть только для того, чтобы, взмыв ввысь, в лучах славы вновь обрести всепобеждающую жену, опозоренную смертью. Он не сомневался, что она ждет его там, в зените, божественная пловчиха…
Несколько раз его навещал Лобов — проведать. «Не дрейфь, все будет о’кей!» — подбадривал он, но сам был мрачен. Что-то у него явно не ладилось. Выкуривая одну за другой дешевые, вонючие папиросы, он обвинял руководство во всех грехах. Его толстое лицо пылало ненавистью. Вероятно, он уже и на Лаврова затаил злобу, подозревая в сговоре с новыми хозяевами.