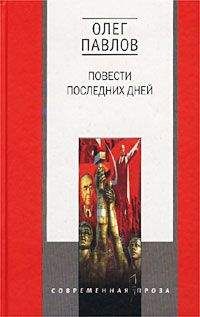Глава 6.
Страсти по приказу
Подъем в лазарете производился поздней, чем в казармах. В лазарете хозяйничал военврач, из привычек которого и складывались здешние правила. Старшина сгонял людей с коек к его приходу, а сам прятался в каптерке и ждал, подремывая, какое настроение окажется с утра у начальства.
Явившись в то утро на службу, военврач, человек издерганный и нудный, обнаружил запись в журнале, что ночью поступил прапорщик, и пошел проверять. Застав в палате Скрипицына, совершенно на вид здорового, он сперва обругал его: лазарет, мол, не постоялый двор, – но, когда прапорщик униженно пожаловался на слабость, подобрел и прописал щадящий режим.
Отдохнув после завтрака, который сам старшина принес ему в палату, Скрипицын, с грязной посудой в руках, пошагал обследовать лазарет. Ему хотелось пройтись, быть может, послушать разговоры, однако лазарет заполнял самый дикий народ. Палаты, точно душегубки, были набиты то ли калмыками, то ли киргизами, глиняными человечками, молчаливыми и тихими. В коридоре, эдаком навылет, народец этот лепился к стенам, и все – ртов с пятьдесят, меньше не вообразишь – жрали тут же из котелков и ничего вокруг не замечали, уткнувшись в эти котелки. Старшина подскочил к Скрипицыну и вывел его на воздух, орудуя сапогами, то есть расчищая начальству путь. Заговорив с ним о черном народце, Скрипицын долго блуждал мыслью вокруг да около простых ответов старшины. А тот растолковывал, что в лазарет свезли отбракованных со всех рот, которые не могут в охране служить. А потому-де решили отправить чурбаков в Алма-Ату, чтобы предъявить в штабе дивизии, а уж оттуда их и переведут в стройбаты Байконура и Семипалатинска. «У нас они уж с неделю, всех умаяли, а никак не отправят. И пожаловаться некому, чтобы дали под зад!» – горевал старшина.
Выслушав старшину и точно бы совсем насытившись, Скрипицын сложил к нему на руки свою немытую посуду, а сам пошел прямо к военврачу, ничего уже не боясь.
Когда Скрипицын пообещал военврачу, что в один день спровадит отбракованных, тот мигом обрадовался, заверив особиста, что и по своей части все исполнит незамедлительно.
Отчисляли же из полка только за подписью начальника штаба. Созвонившись неспешно с Дегтярем и сообщив между прочим, что прихворнул, Скрипицын с чувством доложил о нахлебниках, которых случайно обнаружил в лазарете. Дегтярь с соображениями Скрипицына согласился, и через час по приказанию начштаба в лазарет заявился дядька. Его отрядили за билетами на поезд, и он хотел получить выписку, сколько голов повезет, чтобы расчесть довольствие. При этом обнаружилось, что числом народу поменьше, чем шум, который из-за него поднялся, человек с двадцать по списку.
Скрипицын тем временем отвел военврача в сторонку и шепнул, что в список должен быть включен еще и солдат Калодин. Военврач замялся – в один день, дескать, человека даже из санчасти не спишешь. Но Скрипицын надавил – ежели так, то и отправку придется отложить, – военврач уступил, и Санькины документы отослали с тем же дядькой к Дегтярю, которые тот и подписал не глядя.
Когда же дядька, раздобыв билеты, вернулся в лазарет доложить, чтобы готовились к отправке завтра в полдень, Скрипицын зазвал его в палату и долго вдалбливал тугодуму, что солдатам не велено знать, куда их отправляют. Дядька даже струхнул, что его так особо предупреждают. Дело свое сопроводительное он и сам знал хорошо, и оттого, как давил особист, в его душе образовалась гнетущая тяжесть. Запугав дядьку, Скрипицын обрел наконец покой.
В полку трубили отбой, Хабаров не объявлялся, да Скрипицын и не рассчитывал, что капитан объявится сразу, никаких сведений о Карабасе также не поступало. Победов его, правда, разыскивал, но, узнав, что прописали в лазарете, угомонился. К тому же Скрипицын знал повадки полковника, знал, что стоит тому отложить дело, как он тут же о нем и забывает, поскольку и желает забыть, а не сделать. Оставалось одно неприятное дело – Калодин.
Постучав в особый отдел, Скрипицын поднял Калодина с койки и, не дав очухаться, огорошил: «Чурок повезут в дивизию, а ты поможешь сопроводить, я лично пообещал лазаретчикам. Явка в лазарет утром, тогда и простимся. Так сказать, на дорожку посидим».
Шинель его была вычищена и выглажена Санькой – приготовилась, что Скрипицын и уследил, взяв ее без слов.
Утром Санька Калодин не застал своего начальника в лазарете и потому с ним не простился. От этого он затосковал. Зато дикий народец признал в Калодине еще одного хозяина; тот был русским, здоровяком, отсиживался, хмуро поглядывая кругом, и был одет-обут во все новое.
Дядька поручал Саньке то получить на складах сухпай, то следить, чтобы со всех шинелей были спороты погоны. Санька спорол и свои, но спрятал их. Он же остался в стороне, когда народцу приказали раздеться догола и согнали к душевой, ключи от которой никак не могли найтись. Баба, она же младший военврач, ходила и оглядывала отбракованных на предмет вшей, сыпи, чиркая на стриженых лбах, чтобы заметить, кресты. И кричала старшине, возившемуся с замком: «Вася, детка, кого я покрестила, те гнойные! Обработай их мазью Вишневского, а в душевую не пускай. Вася, а вшей у ребяток нету, можешь ихнее белье оставлять!»
Душевая походила на подсобку, в ней хранилась краска и гашеная известь в бочках. Оставшегося места чуть хватало, чтобы встать под лейки; к простому горбоносому крану припаяли жестяные банки из-под тушенки, продырявили в них днища – и обливали. В сапогах, шароварах, закатав лишь рукава гимнастерки, названный Василием старшина встал в душевой, а за спиной его жестянки цедили ледяную воду, которая лилась из дырок синяя, зазубренная, похожая на железную стружку. Под приглядом старшины народец пошел гуськом обмываться; Василий же следил, чтобы никто не остался сухим, но того, кто застревал хоть мгновенье, образуя затор, пропихивал украдкой сапогом, боясь обрызгаться. В проход, где коченел народец, бросили одно на всех полотенце. А покуда они обтирались, Калодин с дядькой начали выдавать белье, амуницию. В дверях лазарета замелькали хитрые жадные рожи, сбежались со всего полка. Все стоящее мигом подменивалось на обноски, чему вовсе не препятствовал лазаретный старшина, а дядька, захлопотавшись, и не видел. Обирали народец – будто свежевали: хорошую ушанку выдерут из рук, а всунут проеденную молью. А тот и не понимает, что обобрали, для него обе ушанки чужие, а хозяева – те, что раздают или вырывают вещички, будто свое добро. Но когда оборзевшая солдатня стала вытряхать и сухой паек из вещмешков, Калодин вдруг встрял. Подобрав скатившуюся банку тушенки, он принялся ею охаживать солдатню – и всех разогнал.
Когда же чурбаков повели этапом на желвокзал и они возрадовались, думая, что отправляют по домам, Санька Калодин молча косился на эту бестолочь, догадываясь, что зря они так радуются, но растолковывать им это на ихнем языке он не умел…
Загрузились по-быстрому, споро. Дядька еще грозил пьяному проводнику, чтобы тамбуры были заперты ночью, с чем тот удивительно легко соглашался, а Санька уже рассовывал народец по полкам, отбирая с шинелей солдатские ремни навроде паспортов, чтоб не сбежали.
Это был поезд того бесправного типа, которые останавливают не по расписанию, загоняют по ночам на запасные пути, когда надо пропустить скорые, а еще тормозят на всякой безымянной станции, чтобы подобрать людей. В них даже вонючего чаю не подают и негде умыться.
Дядька добросовестно вытвердил поученья Скрипицына, чтобы о дальнейшей судьбе никому не сообщать. Отмалчивался и Калодин. К сумеркам поезд порядком отъехал от Караганды, во все стороны уже разбегалась дикая степная ширь… «Самое время пожрать, а то забудем», – сказал дядька, и Санька его услыхал. Он извлек из того вещмешка, который охранял, фляги с водой, черные сухари, тушенку, приманивая, подзывая народец, чтобы получали пайки. Когда пожрали, чурки, галдевшие со всех полок, сморились и разлеглись спать. Дядька же раздумывал. Ему было удивительно, отчего же и Саньку, такого здорового, смышленого солдата, отправляют подыхать в стройбат. Он не удержался и подсел к успокоенному, отдыхавшему Калодину: «Не спится? А ты знаешь, куда вас, к примеру, отправляют?» Калодин отвечал не дрогнув: «Я покараулю, ложитесь спать». Дядька обиделся: «А ты знаешь, к примеру, куда направляется этот состав? Отправляют вас служить в стройбат». Он вовсе не хотел выбалтывать тайну, но ему хотелось показаться важным да нужным, и еще он думал, что ничего запретного не сообщил, а лишь произвел впечатление. «Я вас отвезу, а потом в обратную, мне этот маршрут не впервой. Тебя-то как угораздило? Такой лось, а чего не служилось?» Калодин вгляделся в расхлябанного дядьку, который в расстегнутом кительке завалился на полку, а потому и болтал лежа. «Хватит вам, моих бумаг у вас нету». – «Может, ошибка, а у меня бумаги твои есть, потому как у меня лучший в полку порядок». Возможно было подумать, что проболтавшийся хрыч решился стеречь солдата; он и вправду долгий час не спускал с Калодина глаз. Но тот сидел, не подавая жизни. Разговаривать с ним дядьке больше не хотелось, да он и побаивался и вдруг как провалился в сон…