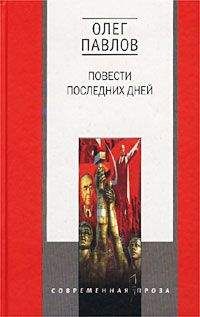В кладовке Калодина обожгло холодом. Повалявшись на мешках, он упрямо поднялся и шатнулся на волю, из темени промозглой прочь, а наткнулся на засовы. «Открывай, отец, хреново мне!» – заколотил он, страшась этого места. Подбежавший к дверке казах зло прокричал: «Сиды, сиды!.. Тута Балакаев начальник». – «Открой!» – «Сиды, дизыртыр. Слышь, турма тебе будет». – «Сволочь ты, открывай, а то разнесу!» – «Слышь, Балакаев ружье есть, стрелять будет!»
Казах запугивал дезертира, но не сомневался в крепости засова. И когда дверь начала раскалываться под разъяренным медвежьим натиском, казалось бы, обреченного человека, Балакаев в смятении бросился себя спасать, ни о ком родном не позаботившись. После долгих отчаянных попыток Санька выломал дверь. Обнаружив, что ни ружья, ни казаха на страже нет, он устремился было во двор, но, спохватившись, воротился, разъяренный еще крепче, за украденной шинелью. Не отыскав и следа ее в той комнате, где они пили, Калодин увидал в углу топор и прихватил его, вспомнив о неприметных дверках, скрытых в сумрачном том проходе, за одной из которых мог бы спрятаться казах. Он взломал топором одну, но за ней оказались лишь путевые фонари и инструменты. А следующую Санька распахнул без труда. В комнатке посреди голых смытых стен тлела на шнуре хлипкая лампочка, освещая спавших на провисших казенных койках детей. Подле них, подле своих детей, подвывала тихонько начальникова баба, уткнувшись в пол булыжными коленями. Она не могла укрыть собой всех дочек да сыновей и повалилась в ноги солдату. «Где шинель? Отдавай! – прохрипел Калодин и замахнулся в помрачении топором. – Шинель, шинель – или всех твоих забью, сука!»
Заполучив же свою одеву, Санька тут же бросил пудовый топор. Дети проснулись еще до того, и, оставленный на мгновенье кинувшейся за шинелью бабой, Санька затравленно глядел на них, принявшихся при виде его сопливиться и плакать. Выскочив со двора, он побежал по стершимся шпалам, как помнил, в обратную сторону – вспять, на далекую недостижимую Караганду…
Саньке Калодину чудилось, что за ним гонятся, он ясно слышал и собачьи взлаи, и топот сапог в этой скрежещущей только от его задыханья степной ночи. Он падал, вздымался и опять рвался из жил. Покуда не скатился под откос… Отлежавшись, беглец вскарабкался на четвереньки, но, вдруг схватившись за горло, уткнулся ничком в каменную землю от внезапного страшней всякой боли удушья. Санька вдруг вздулся, и пораженные глаза его чуть не выкатились наружу, обливаясь слезами. И в то мгновение, когда он, казалось, должен был разорваться, из горла его просочился свист, тонкий, как иголка, а потом вылетели ошметья того, чего не глядя нажрался, запивая начальниковой водкой. Отблевавшись, Калодин вздохнул, будто младенец, выбравшийся из материнского живота, и отполз, боясь глядеть на чуть не задушившую его рвотную лужу.
Шума погони не было слышно. И огоньков станции Санька вдали не увидал… Было ему легко, хотя он и не знал, зачем в нем осталась жизнь.
Из этого щенячьего забытья дезертира выудил гул поезда; один, а потом и другой состав протащились над его головой, товарный да пассажирский, шедшие в разных направлениях. Колея в том месте тянулась по свороченной гряде, и осторожные машинисты брали своих стальных коняг под уздцы, чтоб не завалиться с полным-то ходом набок.
Подкравшись к железнодорожному полотну, Калодин затаился и дождался подходящего товарняка, который состоял из пустых угольных коробов. Пропустив далеко вперед тепловоз, он выскочил из-под насыпи и побежал вровень с расшатывающимися коробами, пытаясь уцепиться за их отвесные боковины, высоко задранные. Вагонетки тягостно убывали, но вдруг будто вспыхнули, и он, увидав торчащие скобы, ухватился за них и мигом был выдернут с насыпи, отчего аж дух захватило, хотя вагонетки еле тащились. С тем же страхом по скобам Санька рывком перевалил через скрежещущий борт и упал уже на утыканное углем дно, испытав вместо удара такую легкость, что из него как вышибло и боль и страх. Развалившись, слушая с радостной пустотой, как шатается по гулкому железному днищу уголь, он задрал глаза и глядел на переливчатую звездную ночь, похожую на россыпь, которая грузилась выше искореженного угольного короба и отбывала тайным грузом неизвестно по какому такому пути.
Калодин забывался, пробуждался, видел уже белый дневной свет, но его опять же укачивало как в люльке… Поезд встал на станции или в пункте, гремящем, закипающем работой. Взобравшись на вагонетку, путеец-рвань загоготал: «А ну подъем, душа твоя в блядях! С фронта драпаешь? Ты кто такой?» Дезертир сгребся в углу и глухо молчал. «Не молчи! – огорчился путеец. – Давай рассказывай свою судьбу, я это люблю… Мне всегда подфартит: как подляк, так в мою смену. Беглый, что ли? Чего молчишь? Вот сдам вохре, не молчи, слышь. Может, я люблю беглых, может, сам отсидел». – «Мне в Караганду», – сказал Санька. – «А у нас тут, считай, Караганда».
Путеец с гоготом арестовал солдата и потащил за собой. Подлазя под растянутые в километр вагонетки, они пошагали в депо. Куда бежать в этом грохочущем железном лесу, Санька не знал и потому смирно шел за путейцем, а тот расспрашивал его с той живостью, что залазил в самые потроха.
В депо весело простаивала бригада, выпивала и закусывала с матерком, такая же рвань. «У него мамаша в Караганде, старуха, он у мамки первый и последний, вся надежа ее, душу мою в блядях. Бежит из стройбата, на волю бежит! Ну, я в него влюбился, он мне теперя как брат, вот я кровь за него отдам. Братцы, Федулыч, как быть-то? Ну, я сам его отыскал!»Человек, к которому взывал бригадир, не глядя спросил: «Правду, что ль, балаболка этот про мать набрехал?» Калодин сказал без раздумий: «Правда». Старшой еще пожевал в молчании, а потом удивился: «Ну чего встал, полно жратвы, а он стоит». Калодин сел на ящик со всей бригадой. Ему придвинули круг копченой колбасы, завитой, как хвост у дворняги, и с такой же красной ужимчатой сракой, придвинули и хлеб. Оголодавший, он принялся все проглатывать, чем и раздобрил путейцев, которые опять повеселели и будто позабыли про него. Потом уж, когда и бригада начала разбредаться, не прощаясь с беглым, точно его и не было, старшой с хмельной крепостью разъяснил, что пребывает в Шахтинске, где есть и шахты и депо. Он же взялся отвести Саньку на шахту и пристроить на автобус, когда станут развозить шахтерскую смену и в Караганду небось повезут.
Народ шахтерский в отличие от путейцев был трезвее и крепче. Беглого солдата здесь живо взяли в оборот. Все казенное, приметное без всякого спроса с него содрали, кроме трусов. Кто штаны пожертвовал, кто сбитыми ботинками, запасной вылинявшей рубахой поделился, кто чем мог. Исчерненные с головы до пят угольной сажей, эти люди выглядели на одно лицо, похожие на негров или хоть чертей. Саньку передавали по живой цепочке, сразу и забывая, спровадив с рук. И в конечном месте устроили ему шахтерский автобус с маршрутом до самой Караганды. Автобус, эдакая теплушка на колесах, сначала долго плутал по унылым просторам всего хозяйства, подбирая на его расхристанных окраинах серых, бескровных людей. Если все же и попадалась сволочь, кто придирался к чужому пареньку и громко высказывался на его счет: «Куда это он, кто это он?» – то вырастал из серой гущи и другой, железной твердости голос: «Не трожь пацана, я отвечаю. Это Старкова Николая сын, проходчика, имеет право за батю в один конец». – «А волосы чего-то остриженные». – «Имеет право, не трожь…»
Высадили Саньку в тихом месте, подальше от патрулей. В той части Караганда была запружена крепенькими избами тех же проходчиков, с дворами, полными старых яблоневых садов, которые в эту промозглую пору, то есть поздней осенью, стояли черны да глухи, обрастая по утрам грязными туманами, а ближе к ночи нагоняли на случайных прохожих страхов своими скрюченными трещащими ветвями. Санька боялся патрулей, но спешил в полк, стыдясь надетого на себя тряпья…
За эти день с ночью и еще один день – всего двое неполных даже суток, которые минули со времени отбывки Калодина из полка, – Скрипицын накрепко позабыл про него. Он ждал капитана Хабарова ночью и днем, то есть круглые сутки, даже ночуя в особом отделе. Сначала послышались ему неуверенные шаги, будто кто топчется. Вспомнив, что дверь заперта и в отделе давно никого из подручных нету, Скрипицын с обидой отлип от бумаг, чтением которых так допоздна занимался, и сам отправился отпирать, но, к удивлению его, никого за порогом не оказалось. Темнота с холодом, которые ввалились в особый отдел, неприятно потеснили кривобокого прапорщика, так что он побыстрее захлопнул дверь и снова заперся. Но не успел он вернуться в кабинет к своему столу, как шаги послышались еще явственней. Скрипицын подумал о капитане, хотя ждал его в другое время, и кинулся ко входу. Однако опять не обнаружил никого близко с пристройкой и все же услыхал как бы шаги, которые быстро отдалялись. Не раздумывая, раздразненный, особист бросился те шаги догонять как был в одной жиденькой рубашке.