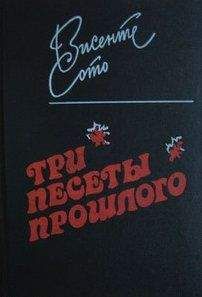Кандида — Брали из тюрьмы и привозили.
Морено — Это была месть. Это была месть. Вот так забрать и увести. Это было… В первый раз… Меня ведь два раза возили. Во второй раз — это когда…
Кандида — Это когда расстреляли моего брата.
Морено — Твоего брата. И было это… За мной пришли в пять утра.
Вис — А где вы были в это время?
Морено — Дома.
Кандида — Он был дома.
Морено — Меня еще не арестовали. И я был дома. Пришли двое служащих аюнтамьенто и повели меня. “Куда мы идем?”
Вис — И было это в тридцать…
Морено — Это было… пятого июля тысяча девятьсот тридцать девятого года. Пятого июля, я точно помню. Утром. Меня и других членов Союза социалистической молодежи заставили присутствовать при расстреле. Это была месть. Именно месть.
Вис — Значит, вас заставили присутствовать…
Морено — Да, при расстреле.
Кандида — И хоронить их…
Морено — Они специально… специально, чтобы… Как месть. Это ясно. И мы были там. Были все время, пока их… В нескольких метрах от… Там была стена, где их расстреливали, там мы и стояли. Когда их расстреляли, нас позвали и велели носить их на кладбище. И я носил. И на другой день, когда их надо было закапывать, я тоже был там. Меня позвали, ну, они так решили… И я там был, конечно, никаких гробов, побросали в яму как попало.
Бофаруль — И так зарыли.
Морено — Я спустился в яму и положил их как следует.
Кандида — И моего брата.
Морено — И твоего брата, и остальных. Всех. Как я их уложил, сразу начали забрасывать яму землей. Мертвым — земля. А когда мы кончили, меня отвели в аюнтамьенто, чтобы я получил деньги.
Вис — Деньги?
Морено — Да. Они сказали, что заплатят за работу. Но я сказал: “Оставьте эти деньги на нужды аюнтамьенто. Или отдайте в больницу. А мне за это ничего не надо”.
Бофаруль — Вот сволочи. И расстреливали на самом кладбище или возле него?
Морено — У самого кладбища.
Бофаруль — И вы их возили на тачке или носили на плечах?..
Морено — На носилках. Там были носилки. Клали убитых на носилки — и на кладбище.
Вис — А как их расстреливали: по одному или сразу всех?
Морено — Всех пятерых сразу, а в первый раз четверых… И было это… как его…
Кандида — Отделение.
Морено — Да, отделение, каждый должен был прицелиться и, когда офицер командовал: “Огонь!”, тогда, значит…
Бофаруль — Из кого было отделение?
Морено — Их было пятеро.
Бофаруль — Я хотел сказать, кто они были?
Вис — Солдаты?
Морено — Да, солдаты, солдаты. И… А они перед смертью обнялись. Их привезли связанными, ссадили с грузовика, и они попросили разрешения обняться перед смертью и обнялись все пятеро…
Небо продолжало наполняться звездами. Ты их чувствуешь, как чувствуют слепые. Их свет холодит.
…а потом они стали в ряд и… и их убили.
И мы потом их подобрали. И отнесли в эту… как ее… ну, куда на кладбище складывают…
Вис — В покойницкую.
Морено — В покойницкую. И там оставили. А на другой день утром пришли и предали их земле.
Бофаруль — Понятно… А обвинение против…
Кандидо — Да что вы, какое там обвинение!
Бофаруль — …против вас всех…
Кандидо — Да кой черт, есть же письмо! Оно у меня. Вот они, факты. Здесь сказано — шестьсот.
То есть шестьсот расстрелянных. Ты это знал, тебе называли эту цифру.
Единственный, кого опознали, — это Муньос Каюэлас, его расстреляли в сороковом. Остальные…
Беспорядочные возгласы, пауза; эта пауза, пожалуй, означала: остальные были расстреляны “неопознанными”, в кладбищенских списках их нет, их как бы и не расстреляли.
Морено продолжал бродить в тумане прошлого. Вытянув вперед дрожащие руки, глядя перед собой невидящим взглядом.
Шум голосов нарастал. Кандидо просил зачитать письмо, Бофаруль и Вис его поддерживали, Кандида сказала: да помолчи ты, — и Кандидо воскликнул: да черт побери, их же шестьсот, на, читай. Письмо переходило из рук в руки, его вертели, разворачивали, складывали, на ленту записался треск, как'будто разгорались дрова.
Но мало-помалу…
Морено — А насчет моего ареста… Какое-то время меня еще не арестовывали. Потому что одни говорили: надо, — другие: не надо. Ведь не было никакой причины, никакого повода, если б я совершил хоть что-нибудь, ко мне бы сразу придрались. Но в моем деле не было никакого обвинения. Только мои политические взгляды. Судья, который меня судил, — он был из Кастельяра, и звали его Эрвас — сказал только: “Вам ставятся в вину лишь ваши политические взгляды, нет ни доноса, ни обвинения. Кроме сведений, поступивших от Фаланги, разумеется”. Эти сведения, наверное, ничем не отличались от того, что знали обо мне в аюнтамьенто. Но это было совсем другое дело… А сведения у них имелись, как не иметься. Что было, того я никогда не отрицал. Ни перед судьей, ни перед трибуналом не отпирался от своих взглядов. Ни от чего. А раз это так, то этот самый книжник (защитник?), которого назначили официально, лейтенант, что ли, взял мое дело и сказал: “Господа члены трибунала, если в вину ставятся лишь политические взгляды… Если нет обвинения, то нет и преступления…”
Вис — И несмотря на это, вас приговорили…
Морено — Они потребовали… Прокурор потребовал пожизненного заключения, а осудили меня на двадцать лет и один день.
Кандидо — И с высылкой, конечно.
Вис — И сколько времени вы провели в заключении?
Морено — Четыре года в тюрьме и восемь месяцев в ссылке, в Хересе-де-ла-Фронтера. Потому что, как мне сказали те… Когда я… Меня приговорили, как я сказал. Потом вышел указ по случаю… Ну, от первого апреля сорок… третьего года[33], по этому указу условно освобождали всех, кто осужден на срок до двадцати лет и одного дня. И тогда меня выпустили… Но сначала запросили наше аюнтамьенто, и те ответили, что мое присутствие в городке нежелательно. Значит, ссылка. Сослали на восемь месяцев, и я поехал в Херес-де-ла-Фронтера — там жила сестра…
Невнятные слова, шум…
…когда ссылку отменили, я вернулся сюда, в родные места, вместе с семьей и в первый же день, как приехал, прошелся по всему городу, пусть рабочий класс на меня посмотрит, а кого встречал из противников, смотрел прямо в глаза. Мне не от чего было опускать голову. Так и ходил с поднятой головой. Когда надо было идти в аюнтамьенто — шел в аюнтамьенто, надо в другое место — шел в другое место.
Кандидо — Может, ты его наконец прочтешь? Наш друг Вис…
Морено — Я должен был являться в полицию и суд[34]. Но в суде все меня знали, начиная с секретаря, и, когда я в первый раз явился, мне сказали: “Сюда больше можете не приходить”. А вот в отделение гражданской гвардии пришлось ходить пятнадцатого и тридцатого числа каждого месяца. Это после ссылки. А в суде мне сказали: “Мы…” Потому что служащие суда, как секретарь, дон Марино, так и остальные, все хорошо знали, кто я такой и что я за человек, и сказали: “Не затрудняйте себя, не ходите к нам, мы будем отмечать, что вы приходили, а вы больше не ходите”.]
Возможно, прослушивание этой записи уводило тебя несколько в сторону от намеченного пути. Возможно, образы начинали мучить тебя все больше и больше. Как бы там ни было, но он… уже видел (хотя и ощущая по временам то сильные толчки, то замирания сердца), что сидит у себя в мансарде, слышит едва уловимый механический шум японского магнитофона, шорох движущейся ленты, затем он слышит, как Кандидо нетерпеливо просит Морено рассказать, “как Бестейро[35] держали в кутузке Вильякаррильо”, а потом — свой собственный голос: “Да, конечно, расскажите”. Это он сказал вслух, а про себя тогда подумал: “Зачем сейчас про Бестейро, каким бы симпатичным ни был дон Хулиан, сейчас это…” — все более отдаляясь от того материала, который представлялся ему как история его поэмы, включенная в поэму, чтобы разбить ее на две части (восстания и преследования в восемнадцатом, девятнадцатом, двадцатом, выборы в советы — вот тогда-то Бестейро и других кандидатов-социалистов арестовали и засадили в кутузку, так называли тюремную камеру в самом здании аюнтамьенто, а Бестейро, чтобы еще больше унизить, шесть часов продержали в уборной, — и Вис тосковал по отдалявшейся все дальше от него поэме, затерявшейся среди китайских теней прошлого, призрачных фигур, витавших в полутьме, словно грешные души на полотне картины, почерневшей от времени).