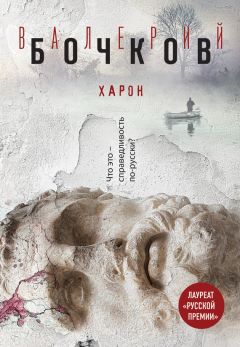Она была плоская, как подросток, голенастая, в ее ломком, долгом теле чувствовалась порода, но какая-то нездоровая, на грани с деградацией. Это был случай, когда красота, стремясь к изыску, делает полный круг и неожиданно смыкается с уродством.
Дрова за моей спиной потрескивали – огонь, похоже, удался на славу. Гостиная словно погружалась в тягучий янтарный мед. Свет набрал силу и осветил потолок с рогатым театром теней. Темень по углам сгустилась, все вокруг стало зыбким, ненастоящим. По белому телу Анны бродили малиновые и оранжевые сполохи, словно неторопливые крылья волшебных птиц. Мне показалось, что от ее бедер, от ляжек исходит молочное сияние, как от тусклой матовой лампы. За ее спиной клубилась гигантская бесовская тень; покачиваясь в такт огню, она доставала огромной головой до потолка и там сплеталась с тенями оленьих голов, превращаясь в жуткую Горгону. Это напоминало какое-то шаманство. Я пошел к ней медленными, слепыми шагами, как во сне.
– Иди сюда, – повторила она тихо, почти беззвучно.
Она сочилась похотью, первобытной, почти звериной, ее рука гладила крутой лобок, ленивыми пальцами раздвигала мокрые и темные набухшие губы.
– Ближе… ближе, – прошептала Анна.
Она впилась мне в рот, жадно, словно кусала большой перезрелый персик. От нее разило кислым вином и сигаретами, но все перебивал терпкий сучий дух, от которого разлетелись мои последние мысли. Я опустился на колени, сжал ладонями ее тощие ягодицы, коснулся языком клитора. Она дернулась, застонала, подалась вперед. Моя рука медленно поползла вверх по ляжке, внутренняя сторона бедер была жаркой и липкой, тут похоть сочилась буквально.
– Нет, подожди, – вдруг хрипло прошептала она. – Не так…
Подтолкнув меня к креслу, она расстегнула мои джинсы, рывком спустила. Я грохнулся в кресло, она, сипло дыша, наклонилась, развела ноги.
– Ну где ты там… – Вперив в меня безумные глаза, она шарила рукой внизу, пристраиваясь. – Ага… Вот так… – Она закусила губу и медленно опустилась. – Вот так…
Я закрыл глаза.
– Нет, нет! Не жмурься, открой, открой! – торопливо заговорила она, двигаясь вверх и вниз. – Смотри на меня! Смотри!
Сжав ее бедра – у нее был широкий костистый таз, я, поймав ритм, упруго подался вверх и вперед. Она вскрикнула, застыла, словно оценивая. Потом засмеялась, задыхаясь, быстро заговорила:
– Хочу видеть твои глаза, не закрывай, не закрывай глаза, особенно в конце… и не молчи… говори мне… говори и смотри в глаза…
Это был не мой стиль – говорить, да и вообще после четырнадцати лет сплошной моногамии любая секс-комиссия, скорее всего, дисквалифицировала бы меня, отстранив от участия в подобных состязаниях.
– Не молчи… – глотая ртом воздух, прошептала она. – Ну говори!
– Что? – неловко буркнул я, вспомнив, как лет сто назад, еще до женитьбы, я познакомился на Кипре с голландкой (имя не сохранилось в памяти), которая умоляла меня в постели говорить ей что-нибудь по-русски. Сама языка она не знала, поэтому наши любовные занятия я сопровождал чтением стихов из школьной программы. Особенно ей нравился «Парус». Думаю, что Анна Кирилловна вряд ли ожидала от меня декламации стихов Лермонтова.
– Расскажи мне… – Она застонала. – Расскажи мне… как ты убьешь Тихого. Как ты его убьешь?
Такого поворота я не ожидал, она застала меня врасплох, я сбился с ритма и чуть не выскользнул из нее. Она умело удержала меня внутри.
– Как ты, – снова набирая темп, быстро проговорила она, – как ты уничтожишь эту мразь… расскажи мне!
– Я думаю… оптимальный вариант… подмосковная…
– Нет! – возмущенно перебила она. – Нет! Что ты мне какую-то презентацию фигову городишь? Ты расскажи, как… ты сожмешь его куриный кадык… в кулак… с хрустом! С хрустом! – Она задышала чаще. – Как выдавишь ему глаза! Пальцами! Вот так! Вот так! Пальцами!
Она безумно захохотала и впилась ногтями мне в спину. Впрочем, не очень больно, хотя в целом происходящее производило довольно жуткое впечатление.
– Ведь я не хочу, мой сладкий, чтоб ты его просто чпокнул… Всадил пулю в лоб… – Она вдруг взвизгнула, запрокинула голову. – Так! Так!
У меня по бедрам текло – липкое, горячее. Иногда раздавался чавкающий звук, от которого Анна, румяная, потная, с прилипшими ко лбу волосами, распалялась еще больше, пытаясь загнать меня глубже и глубже.
– Ты ведь умеешь пытать? Мучить умеешь? Ведь вас учили там, в вашем этом десанте фиговом… Ведь учили?
– Да… Пытали…
– Как? Как? Как пытали?
– Спать не давали… очень эффективно, свет в камере…
– Чего?! – захохотала она. – Свет… Не могу… Свет, о господи…
– Для получения информации… говорю… очень эффективный метод.
– Не останавливайся! – сердито прикрикнула она. – Ты что, два дела сразу не можешь делать? Говорить и…
Она смачно произнесла матерный глагол. Темп я действительно сбил.
– Нет, милый мой, нет. – Она приблизила жаркое лицо. – Мне его информация на хер не нужна. Я хочу, чтоб он помучался.
Оргазм ее был страшен: разинув рот в беззвучном крике, она затряслась, словно ее бил ток, зрачки закатились, на меня пялились два бельма, слепых и вурдалачьих, пылающее лицо не просто побледнело – стало сине-пепельным, с белыми, будто в инее, губами. Тело покрылось мурашками, выгнувшись, она застыла в судороге – на миг я подумал, что ее хватил инсульт.
За эту секунду я успел прикинуть, что, выскользнув через заднее крыльцо, запросто перебью охрану, суну мешок с деньгами в багажник «бентли» и уже через час буду на канадской границе; из Квебека – прямиком в Мехико-сити; там покупаю скромную яхту – футов сорок, что-нибудь класса «пассат»; беру курс на норд-ист в Карибское море, по бирюзовым далям которого рассыпаны острова с манящими именами – Санта-Крус, Антигуа, Тринидад и Тобаго, Аруба, Сент-Джон, где из золотистого песка растут кокосовые пальмы, в пятнистой голубой тени спят изумрудные игуаны, где на укромном пляже шоколадные мулатки с азалиями в волосах подают ледяную пина-коладу, где закаты похожи на пожар, а рассветов никто не видел, потому что каждый вечер – праздник, и гульба кипит до глубокой ночи…
– У-ух, – выдохнула Анна, и мои мулатки, паруса, игуаны нехотя растаяли. Я вернулся.
Тут было душно и смердело развратом. Дрова прогорели, угли тускло освещали комнату рубиновым жаром.
– А ты? – без особого интереса спросила Анна. – Давай я тебе…
– Ничего, спасибо, – перебил я ее. – Я буду наслаждаться ожиданием, потерплю до следующего раза.
– Следующего может и не быть. – Она засмеялась, но тут же добавила: – Впрочем, хозяин – барин, твое дело.
В ванной, жмурясь от душа, она спросила:
– Ты в Бога веришь?
– Да, – соврал я, очень уж не хотелось начинать этого разговора.
Я не верил ни в Бога, ни в черта, ни во что на свете, кроме одной вещи, – зло должно быть наказано. Наказано непременно. Для меня в этом была суть и смысл жизни, принцип устройства этого мира. Если хотите, главный закон мироздания, на котором держится цивилизация. То, что называют затертым словом «справедливость». Будь я сентиментален, то именно это слово выколол бы на своей груди. Какую-нибудь гибкую пантеру и слово «справедливость» готическим шрифтом. Справедливость, которой не нужны адвокаты, прокуроры и прочая судейская сволочь, справедливость, которую ты понимаешь душой, а не рассудком. И ради этого не только стоило жить, ради этого и умереть было не жалко.
На войне атеистов нет. Я выбрал войну, война стала моей жизнью, смерть стала моей работой. Когда твоего товарища, с которым ты говорил минуту назад, разрывает на куски фугасом, мясо и кишки летят в разные стороны и все это происходит на твоих глазах, тебе просто необходимо во что-то верить. Без веры тут не выжить. И не так важно, во что ты веришь, важно верить. Просто верить.
Может, я ошибаюсь, и архангелы действительно существуют в природе. И в конце концов, они все-таки протрубят в свои дудки. Я не закоренелый атеист, возможно, апостол Петр и встретит меня там, у золотых ворот. Я не заслужил рая, мы оба об этом знаем, но я все-таки надеюсь, что у старого рыбака хватит милосердия не отправлять меня в ад: ведь именно милосердие лежит в основе их религии. Да, я грешен, ибо творил зло, но я творил его, сражаясь с еще большим злом. Да, я не смог полюбить врагов своих, я их уничтожал вот этими самыми руками – каюсь, грешен. Но делал это не для себя, не для собственной шкурной выгоды, делал это лишь в интересах справедливости, высшей справедливости. И здесь мы с Иисусом заодно.
Мы забыли задернуть клеенку, душ вовсю лил на кафель. Анна намылила голову, смешно отплевываясь, терла ладонями лицо, фыркала, гладила плоскую грудь с коричневыми сосками. Мыльная вода стекала по бледному животу с глубоким пупком, по лысому, скользкому, будто отлитому из розовой резины лобку; воинственный клитор скукожился и спрятался в вялых складках, ее диковинная вульва, достойная кунсткамеры, превратилась в скучную стандартную вагину.