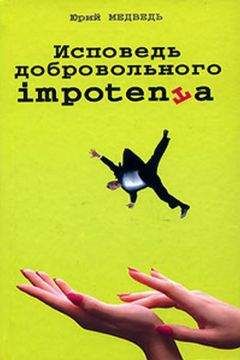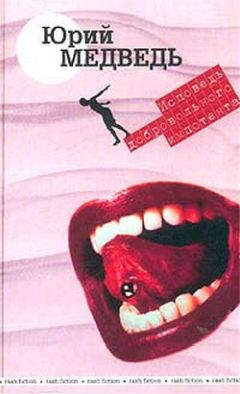Мы разнимали их и раскладывали по кроватям. Однажды, уже лежа в постели Коля открылся мне, что имел женщину единожды.
Произошло это во Владивостоке. Трое морячков с эсминца «Отважный» опоили повариху с плавбазы и спешно отметились по очереди. Коля оказался крайним.
— Она была такая грязная, хлюпала и пахла, но я не мог от нее оторваться… — хныкал Коля, впадая в пьяную апатию.
Мне было его жалко. Жалость перекидывала мостик, шагать по которому, было и горько, и сладко. А теперь, он свалил всех нас в клоаку и, возгордившись, обрел свой стерильный мир. И даже птичек не пускает! На лету они, видите ли, гадят! А что же им приземляться всякий раз, как приспичит?! Гаденыш! (Оля, Оля! Прощай моя Оля, а с ней и… Пусть сдохнет вся свора!)
— Лучше бы ты мне соврал, что у тебя нету, — сказал я, в очередной раз раздумывая, как же мне теперь относиться к Коле: послать его раз и навсегда, или утопить?
— Если ты находишься на стадии «Становления», нельзя говорить неправду, иначе не попадешь в стадию «Озарения».
— Ладно, озаряйся! — отрезал я и грубо толкнул калитку, на соплях подвешенную к эклектичному забору. Мы входили в царство Великого Хлама.
Михалыч вывозил мусор со двора с промежутками в пять лет. На то была одна причина — бескомпромиссная экономия. За неполные 70 лет Михалыч, несмотря на свой природный маленький рост, поимел пять жен и сейчас жил гражданским браком с сорокалетней стрелочницей с Северо-Западной железной дороги.
От каждой зарегистрированной жены Михалыч прижил по дочке, от каждой дочке по внучке, стрелочнице регулярно требовались аборты, а пенсия у Михалыча была, как у всех — чуть меньше прожиточного минимума.
— Здравствуйте, Михал Евгеньевич. Знакомьтесь — Николай. Имеет намерения снять у вас комнату.
Михалыч в рукодельных шортах (стрелочница соорудила из своих джинсов) нанизывает на нить грибные кусочки.
— Цену знаете? — басовито спрашивает Михалыч, хмуря пушистые брови.
— Цена в общих чертах устраивает, хотелось бы посмотреть, — брезгливо озираясь, изрекает божий гигиенист.
Михалыч не суетится — присматривается к клиенту. У него свой метод идентификации личности. Поболтав с человеком на вольные темы, Михалыч точно определяется, кто перед ним — деляга, гомосексуалист или наркоман. Я у него числился в наркоманах.
— Невозможно грибы собирать в этом году. Озоновая дыра над городом, читали? — приступает Михалыч.
— Я газет не читаю, — ляпнул Коля.
— Денег нет, что-ли?
— Деньги есть. Просто в газетах много грязи и в телевидении тоже.
— Телевизора, значит тоже нет?
— Без надобности. А как у вас насчет тараканов?
— С тараканами без проблем, Коля, — вмешался я в перестрелку, потому как уже наметил, что сейчас отправлюсь к Шурику на Василеостровскую, но до электрички у меня оставалось с полчаса, можно было и повеселиться:
— Так, что там за дыра-то? Большая?
Михалыч хмурится пуще, не нравилась ему наша компания:
— Средней величины дыра, но грибы уже мутировали. Сыроежка стала похожа на белую поганку, а белая поганка под свинуха личину приняла. У подберезовика ножка наподобие мухоморовой, а груздь, видно, вовсе вымер. В общем, всех их надо полдня варить, а потом еще всю ночь жарить. А то вон по телевизору передавали, на прошлой недели семь человек насмерть отравилось. Хорошо, хоть все азербайджанцы. Так что, телевизор иногда не вредно посмотреть, если жить хочешь.
Коля молчал. Его внимание было полностью поглощено собственной туфлей, оказавшейся в теснейшем соприкосновении с кошачьим калом.
— Кстати, удобства во дворе. На свежем воздухе, если можно так выразиться, — заявил Михалыч.
— Как? — встрепенулся Коля и посмотрел на меня. — А мне говорили…
Я посмотрел на Михалыча.
— Загадили в конец, пришлось отключить.
Все ясно — стрелка вербального детектора Михалыча застыла на отметке — гомосексуалист. Не видать чистоплюю комнаты.
Из-за зелени, вдалеке, послышались посвисты электрички. Я бурно изобразил неожиданно всплывшее срочное дело и выскочил за калитку. Надо было спешить к Шурику. С ним теперь сожительствовала моя надежда, вернее, не с ним, а с его коммерческой деятельностью.
У Шурика было свое кредо — он пытался жить по-крупному. К какой бы сфере деятельности не доводилось ему прикоснуться, он всегда начинал с главного:
— Главное в мастерстве актера — архетип! Схватить архетип — вот наша задача! Вся эта карусель по системе Станиславского — туфта! Щебень для бездарей! Гениальный актер — владыка архетипа!
Или так:
— Главное в коммерции — оборот капитала! Вложил копейку — получи десять! Потратил десять — верни рубль! Рубль — сто! Сто — тысяча! Золотая прогрессия! Стабильный оклад, случайный навар — туфта! Удел мещан и серости! Хочешь быть миллионером — крути!
А вот совсем свеже:
— Самый мощный капитал — власть! Коммерция, бизнес — туфта! Мышиная возня плебеев! Хочешь иметь все — имей власть!
Но, как можно заметить по аффектациям его речи, характер у Шурика был истеричный. И кратковременные вспышки экстатической деятельности в начале пути, в последствии сменяли мрачные полосы разочарования и депрессии.
Я вышел на свежий воздух из станции метро Василеостровская и резво преодолел расстояние до NN рынка. Лавируя в людском потоке, отыскал в бесконечном торговом ряду деревянный прилавок давнего товарища.
В прошлое мое посещение Шурик отрабатывал тему с туалетными аксессуарами. Его столик пестрел роскошным ассортиментом: рокайльные флакончики, содержащие разноцветные жидкости, завораживали глаз; мягкотелые тюбики, распираемые лечебными пастами, сулили безусловный эффект; поверх экспозиции, развевались рекламные язычки туалетной бумаги, аж в семи сортах, обещающие нежнейшее соприкосновение с вашим наичувствительнейшим органом; а великолепный вернисаж тампончиков, затычечек, прокладочек с крылышками и без, с ароматами юного ириса, древнего бергамота, горного розмарина, легендарной лаванды, чувственной жанкилии и страстного цибетина, привлекали такое количество девушек, что лучшего места для приятнопровождения я не знал.
Нынче перед угрюмым продавцом лежала детская обувь сомнительного качества. По всему облику Шурика основательно прошлась мука очередного отчаяния и, перекосив физиономию, обвисла на размашистых бровях.
На мое радостное приветствие Шурик тяжело посмотрел поверх очков и откинул стойку прилавка. Я перешел на его сторону.
Вялое рукопожатие.
Сразу говорить о своей нужде было бы убийственно, и я начал с сочувствия:
— Выглядишь как-то не на все сто.
Шурик поморщился и, как мне показалось, внутренне застонал:
— Жизнь пропала. Все болит. Два дня бухал, как сука. Садись.
Я сострадательно покачал головой и опустился на деревянный ящик. По другую сторону прилавка, загородив своей тушей солнце, возникла дама в соломенной шляпе. Огромный палец с фиолетовым ногтем замелькал перед сморщенным носом Шурика:
— Размер?.. Сколько?..
Шурик принялся оглашать цифры.
Заполняя заминку, я осмотрелся — справа, анфилада обшарпанных арок; слева — зеркальное отражение того, что справа. В целом — сквозная пустота. И вдруг, из-за соседней колонны, что слева, вынырнула филигранная женская попка, втиснутая в коротенькие джинсовые шорты. Края хлопковой материи размахрились, и кончики нитей щекотали бронзовую кожу стройных ляжек. Попка передернула ягодицами и исчезла. Я потянулся за славной егозой.
За колонной у такого же прилавка стояла молодая женщина с причудливой прической. Хвост, схваченный черной бархатной резинкой, вздымался на макушке вертикальным столбиком и затем, ниспадал каштановым веером на плечи. Прищурив искусно оттененный глаз, гривастая коммерсантша общитывала мой потенциал. Я призывно подмигнул. Тонкие перламутровые губы дрогнули, но улыбки не получилось, но и презрения не вышло. Незнакомка отвернулась и с ленивой грацией потянулась, пустив по всем изгибам своего свежего тела легкую волну. Это колыхание отозвалась во мне бурным приливом естественных чувств, загнанных в глубь скверной необходимостью.
— К Паше на днях заезжал, — включился Шурик, расплевавшись с «соломенной шляпой». — Ну, посидели, покурили. Я говорю, ладно, давай бутылку возьмем, чего резину-то тянуть. Вижу же, он тоже страдает. Взяли литр, разговорились, решили уехать на рыбалку. Посидеть в тишине мужской компанией. Паша мне свои резиновые сапоги отдал, а себе взял Татьянины. Рюкзак нашли, упаковали в него все, что от разговора осталось и тут, входит Татьяна.
Шурик приостановился и выполнил головой жест, еле уловимый, но полный жгучей обреченности:
— Я ей говорю, Таня, мы едем на рыбалку. Дай спички. Просто сказал, без подтекста. А она берет у Паши из рук сапог, он один-то уж натянул и передохнуть сел, и этим сапогом, хорошо хоть не кирзовый, как даст прямо Паше по лбу. Мне так противно стало, стянул я с себя Пашины сапоги и ушел.