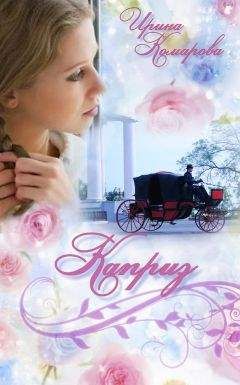Следующее утро.
Пока-пока, Горацио! На сем заканчивается История, отпустив без парашюта. Быть может, его станут выбрасывать через «у». Сегодня в трамвае видела женщину с улыбкой Джоконды и шеей Нефертити. Я зажмурилась, слегка ущипнув себя, а открыв глаза, заметила вместо женщины пустоту. Конечно, откуда в три часа в трамвае — Женщина с улыбкой Джоконды и шеей Нефертити?! К тому же, шея у последней длиннее возможной, а модель гения Возрождения — т. е. улыбка модели — достаточно никакая: так улыбаются некоторые, только о них не спорят, как о Екатерине Медичи. Сегодня, опять же, где-то написали, будто в Лувре — не подлинник. А про Нефертити ничего не написали: египтянка оказалась действительно идеальной карманной женщиной с миндалевидным разрезом глаз. Интересно, кого бы ты испугался больше в три часа в трамвае — Мону Лизу или карманную дневную красавицу? (С некоторых пор я прикидываю периодически, где может быть хуже — отсюда «кого больше»…)
Что же касается остального, то здесь все как всегда. «Остальное» — оно ведь всегда «как всегда»; «остального» очень много, местами оно скучно или банально…
Пару дней назад мне удалось прыгнуть в люди без парашюта. При болевом шоке боли не чувствуешь; все приходит потом. Это только Пешков, став позже толстотомным классиком, где-то как-то доказывал пользу людей.
Пару дней назад я не согласилась ни с Пешковым, ни с людьми. Впрочем, не согласилась — слишком сильно. Как можно согласиться с кем-то, принимающим твой язык за мертвый иероглиф?
Каюсь, не впервой. Теперь в люди прыгать стану с парашютом — это совершенно необходимое приспособление: люди его не замечают; его сама стараешься не замечать, чтоб не сильно так трясло, селяви…
День.
Отхожу от старых истин, Горацио, так и не найдя новых. Хотя истины вообще в природе нет — просто слово, шесть букв; иногда употребляется в кроссвордах. Может быть, цель жизни (не всеобщая, а конкретная, отдельно взятая) — и есть материализованная истина (опять же, отдельно взятого чела, но никак не всего мира)? Но у девяноста процентов людей нет цели, а значит, и нет истины. К тому же, раз у каждого человека разная цель, то и истина тоже весьма вариативна… Какие нудные они, эти мысли мои! Животные мудры: обходятся без букв — не разгадывают в кроссворде слово из шести, не оказываются в положении Кая, складывающего из льдинок «вечность», — опять же, свою собственную.
Едва ли Андерсен, придумавший все это, был глуп. Иначе зачем облекать «вечность» в кусочки льда? Наверное, в вечности холодно. Или зябко. Не по себе.
Другая точка зрения порождает совершенно иное толкование. Какое из них точнее? То, что существуют две вечности, совершенно ясно… — каждый выберет себе оптимальную Г — там. Или ему выберут. Там.
Интересно, как — там? Там нет листьев; одна Беспредельность. Неужели в Беспредельности нет листьев, Горацио? Вот черт!!
Роль листьев Беспредельности играем мы во все смены времен года; Земля — она как дерево, а люди периодически растут из нее, имея недолгую возможность над той покружиться… Но тогда что выполняет для Земли роль «земли»? Глупо было бы спрашивать у нее самой; Земля молчалива — никогда не проболтается; Землю можно брать с собой в разведку…
А твоего бога, Горацио, хоть тот и молчалив, в разведку брать с собой нельзя. У тебя очень странный, очень холодный «бог»! Твой бог продул меня, как сквозняк. Я долго после него болела; никто не просил меня, впрочем, сидеть на сквозняке. Никто не просил и не сидеть. Но даже без сквозняка Он какой-то слишком северный; а еще в нем совсем мало любви. Разве может быть бог — без любви, Горацио?
Твой бог создал тебя по своему образу и подобию — (не)совершенным, (не)абсолютным и (не) теплым; он взаимообратим, только ты не научился «обращаться», ты сидишь в холодильнике. А может, тебе настолько жарко внутри, что тепла извне уже не нужно?
(Не) сомневаюсь. Но как ледовита твоя Снежная К°! Как долго ты силишься собрать свою вечностьі А может, и не существовало никогда ни Королевы, ни вечности, ни твоего бога?
Тогда — кто ты, Горацио? И зачем здесь? В собственном существовании я слегка сомневаюсь; осталось усомниться в существовании всех остальных — и мир станет таким, каким должен стать.
Мне подарили желтые розы. Красивые желтые розы. И много чашек. И коврик для мыши. Я использую его вместо подставки под чайник, это забавно. Себя я тоже использую не по назначению, и это уж совсем презабавно. Ха-ха. Можно смеяться.
Бывает состояние ануса в квадрате. Дважды, трижды ануса. Мне кажется, я где-то дальше, чем даже анус в кубе. Говорят, это проходит. Говорят, люди не живут в одном теле вечно. Анус в пятой степени. Анус в квинте. (Аплодисменты). Но крайняя степень ануса породит собственную противоположность! Хотя последнее время не очень-то веришь последователям Лао-цзы. Себе. Тебе. Листьям. Иногда наоборот — и тоже: слишком.
Что хочет сказать друже Горацио?! Сможет ли?
А люди делятся на: обыкновенных, талантливых, скучных, гнусных, больных, менее больных, никаких, с моральным уродством, без морального уродства, айсбергов, шутов, идиотов, тех, кто (не) пишет, etc.
Иногда я пыталась вычленить себе подобное существо из категории, задавая не описанные наукой параметры поиска, но категориальный аппарат присутствовал лишь в надуманных системах (ну, скажи же, что я снова ошибаюсь!)…
Вечер
…Я, собственно, хотела отпустить воздушные шары. Раз они никого не могут поднять. Как-то нелегка тяга земная! Даже с шарами. Зачем они?
Пусть летят — я отдаю их; они невидимы — никто, кроме тебя, не заметит подарка. It’s present for you!
Я не обещала, а ты не просил. Или наоборот?
Надо мной светит лампа. Солнце спит; солнце на другом континенте. Я не умею обращать их; я даже не знаю, связала ли пару слов.
В каждом времени года есть тепло; «Ищите и найдете».
Пока-пока, Горацио! «Ай эль ю бэ эль…», будь здоров, все будет хорошо, но потом, и так далее, и так далее, и так далее, просто бесподобно…
Ночь.
Египет на двенадцатом месяце года. Женщина с улыбкой Джоконды и шеей Нефертити сидит около пирамиды Микерина — самой маленькой из больших пирамид Гизы. Рядом — Горацио. Оба в темных очках и с пивом. Толпы арабов, предлагающих ширпотреб, им нипочем. Жарко. Древняя история слишком далека и расфасована для туристов.
Гиза… Самое северное кладбище Мемфиса. Одно из Семи чудес света.
Пока-пока, Горацио! Пока-пока… Ана акалем бель русие. Шокран![3]
Бурные, продолжительные аплодисменты.
Люди, куклы и их полутона
…Ее голос был голодным волком, который проваливается в глубоком снегу.
— Ты думаешь, что можешь приезжать, получать то, что хочешь, и уезжать снова? Неужели ты так глуп?
Он с изумлением смотрел на нее.
Хербьёрг Вассму. «Книга Дины»
Это было не так давно, поэтому не все еще отболело. Иногда мне снится небо — низкое небо Кристианзанда, где облако над макушкой достать ничего не стоит.
Разве что билет туда дорог, а впрочем — «one way ticket».
Я работала тогда в провинциальном кукольном театре: гениальный режиссер со всеми вытекающими актерско-травматическими последствиями; загранки; аквариумы и пальмы в фойе. Я же почитывала чужие не- и плохие пьесы. Главреж относился ко мне снисходительно, зная острый язык экс-газетчицы, от роли которой отошла я с тайным умыслом найти какое-либо менее однодневное творчество, нежели написание заметок о провинциальной жизни или никому не интересных репортажей о нуждах вечно нуждающихся: так вот и оказалась завлитом. А вскоре случилось так, что случились гастроли. В провинцию приехали то ли люди, то ли куклы из Осло.
Осло… Что я знала тогда про Осло, кроме того, что это — столица Норвегии? что знала о Норвегии, бог мой, что я вообще знала?!
— А какие они, фьорды? — спрашивала я потом голубоглазого, словно с картинки иллюстрированного журнала сошедшего, брюнета, поддерживающего меня за локоть на хрупком навесном мосту.
— Это раасскол зьемли… килламетров на двьести, а по глубина… — он подбирал слова… — по глубина — бойлыне горы!
— Ты покажешь мне фьорд, Ингвар? — спрашивала я. — Самый огромный раскол, самый глубокий — покажешь?
— Я показжу тьебе всю Вселенную, — отвечал мне на ломаном русском человек, сошедший на российские рельсы со страниц иллюстрированного журнала.
Мне не хотелось вспоминать мультфильм для взрослых, где: «Любимая! Я подарю тебе всю Вселенную!» — звучало на фоне знакомого скрежета отдраиваемой сковородки. Я слишком помню этот скрежет: два не слишком удачных брака; два застывших в стекле глаза: то ли чуда, то ли кошмара.