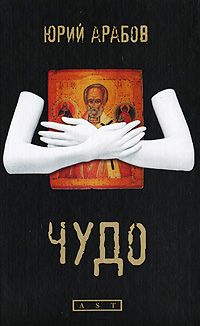Валериан Григорьевич нес над ним раскрытый зонт, но не поспевал из-за ватных ног, и голова Хрущева все время оказывалась под дождем.
У трапа их уже ожидали трое секретарей из местного горкома КПСС, перепуганных, бледных, с трясущимися губами. За ними стояли две черные «Победы» и милицейская машина.
Никита Сергеевич недовольно посмотрел на «Победы» и бросил сквозь зубы:
– У вас что, даже ЗИМов нет?
– Не водится, Никита Сергеевич, – прошептал секретарь горкома еле слышно, широко раскрывая рот, как рыба. – Не положено по штату.
– И куда же это я попал? – Хрущев тоскливо посмотрел на небо.
Оно было похоже на вывернутую наизнанку овчину и, как обычно, молчало. А если уж говорило, то только громом.
– Гречанск… Никита Сергеевич! – объяснил еле слышно горкомовец.
– Гречанск? – удивился Хрущев. – Ты про такое слышал? – спросил он у своего помощника.
Тот загадочно промолчал.
– Гречанск – это хорошо, – сказал Никита. – Но за «Победу» для первого лица партии Иосиф Виссарионович расстрелял бы вас на месте!
Один из местных секретарей покачнулся, но его поддержали.
– Репрессий захотели? – спросил их душевно Хрущев и сам себе ответил: – Не будет вам репрессий. С нарушениями социалистической законности покончено навсегда. Куда садиться?
Секретарь горкома безмолвно открыл дверцу «Победы». Хрущев и его помощник бухнулись на заднее сиденье. Никита Сергеевич вытащил из кармана пальто носовой платок и обтер им мокрое лицо.
Он знал эти маленькие города. Чем больше в них было начальства, тем меньше просматривался хоть какой-то толк. Эти прыщики на земле, всегда готовые прорваться гноем, что с ними делать, как удержать от гибели и дегенерации? «Укрупнять, – сказал он сам себе. – Чтобы духу не было этой местечковости. Города-гиганты, наполненные молодежью. Крупное машинное производство, как писал Карл Маркс. Только так мы выберемся из нужды».
– Ты кто? – требовательно спросил он у шофера.
– Я – Сиделкин, – отозвался шофер трясущимся голосом.
– Вези нас скорее отсюда, товарищ Сиделкин! – душевно посоветовал ему Хрущев.
Мотор у машины взвыл, и «Победа» быстро отъехала от уставшего в пути самолета.
– Гречанск… – задумчиво пробормотал Первый секретарь. – Что у нас было по Гречанску, Валериан Григорьевич?..
– Сейчас и не припомню, – уклонился помощник от ответа.
– А ведь что-то было… – сказал сам себе Хрущев и добавил с тоскою: – Первобытные нравы… А ведь тоже – советская земля!
Цокнул зубом и тяжело вздохнул, ощупывая несвежую обшивку дверцы. Рука его обнаружила небольшую дырку в сиденье под собой. И эта дырка его еще сильнее насторожила.
Возможно, это была не дырка, а нора, в которой таился мелкий хищный зверек, готовый оттяпать если не руку, то палец. И дыра была не в обшивке, а в памяти. Сталин, например, ничего не забывал. Только на одном заседании Политбюро, когда голова у вождя начала сдавать, он вдруг попросил выдвинуть Пятакова и Сокольникова на руководящие должности. Было это после войны, и трупы обоих, расстрелянных в подвалах Лубянки около десяти лет назад, давно истлели и слились с землей. Но случилось это со Сталиным лишь раз. А он, его наследник, стал забывать частенько о всяких хищных хорьках, сидевших до поры до времени по своим норам.
«Гречанск, – повторил про себя Хрущев. – Ведь что-то же было?..»
А ночью приснился ему голос. В нем не было, пожалуй, ничего сверхъестественного, он, скорее, отвечал на дневные мысли, только легкий кавказский акцент слегка настораживал и пугал.
«Ты хочешь знать, в чем преимущество социализма? – спросил голос с приятными восточными модуляциями. – Преимущество его – в народе, который его терпит и считает своим. Больше ни в чем». «Хорошо, – ответил ему во сне Хрущев. – С этим я согласен. А как с капитализь мом? Будет ли народ его терпеть, если он когда-нибудь возвратится?..» «Будет, – подтвердил тот же голос. – Если наша партия его введет и поддержит».
Молния расколола надвое черное небо. Гром ударил так, что затряслись стекла.
Хрущев сел в постели и включил настольную лампу. Часы на столике показывали половину третьего ночи.
– Гречанск… – сказал он сам себе. – Вспомнил!..
Озарение пришло неожиданно. Короткий некрепкий сон освежил усталую голову и освободил в ней место для последующих мыслей и действий.
Хрущев накинул на плечи казенный халат, нервно запахнул его на груди, вышел в прихожую и требовательно постучался в соседнюю комнату.
– Валериан Григорьевич, открой… К тебе можно?
Не дождавшись ответа, сам приоткрыл дверь, которая оказалась незапертой.
Его помощник в ночной рубашке до пят склонился над разобранной постелью, что-то внимательно рассматривая и приставив зажженный ночник к простыне.
– Я вспомнил, – сказал ему Никита. – Деятельность антисоветской сектантской группы… Вот что такое Гречанск!
– Не думаю, – сдержанно ответил помощник, рассматривая пододеяльник сантиметр за сантиметром.
– А что ты себе думаешь, Валериан?
– Думаю, что клопы, – ответил тот.
– Ну да, клопы… – согласился Хрущев. – И они тоже – политический вопрос!.. Да вот же они, гады!.. Лови!..
Он ловко поддел кого-то с простыни и раздавил пальцами.
– А ты неженка, – сказал Первый секретарь своему помощнику. – Эти твари даже в землянках и блиндажах водились, не то что в гостиницах. Я на Киевском фронте вставал весь искусанный. Только керосин помогал. Протрешь кровать керосином и на керосине спишь.
– Но сейчас-то не война, – напомнил ему Валериан Григорьевич.
С этим вопросом было сложно. Война действительно отшумела одиннадцать лет назад, но существовал Запад, и из-за него, чисто географического понятия, все превращалось в битву – за урожай, за умы людей, за социалистическое искусство и литературу. Эта война не слишком вдохновляла Хрущева. И на только что прошедшем съезде он выдвинул небесспорный для него самого тезис о мирном сосуществовании двух систем. Выдвинул под влиянием таких людей, как Валериан, который в одном кармане таскал партийный билет, а в другом – Эриха Марию Ремарка. Его Никита Сергеевич не читал и читать не собирался. Более того, никак не мог взять в толк, как у мужика может быть женское имя Мария. Он иногда подкалывал Валериана Григорьевича: «Ну как там твоя Машка? Всю ли дочитал или еще немного осталось?» Валериан молчал и дулся. А однажды вдруг сказал, как во сне, что Восток и Запад – всего лишь географические понятия. Не будет одного, исчезнет и другое. Исчезнет все, когда геометрия пространства сольется в единую плотную точку. Он был философ, этот Валериан Григорьевич, еще помнивший заветы красной профессуры и ее вдохновителя – неутомимо-терпимого ко всему Бухарчика, лояльного к Сталину и репрессиям в том числе.
Но сейчас Никита решил не согласиться с собственным помощником.
– Почему не война? – возразил ему Хрущев. – Она и не кончится никогда до полного построения коммунизма… Напомни мне про этих сектантов!
– Там, кажется, не одни сектанты. Там сложнее.
– Что «сложнее»? – впился в него глазами Никита.
– Нам сообщали зимой по линии министерства государственной безопасности… Клинический случай с необыкновенными последствиями. Вот еще один! – И Валериан Григорьевич с отвращением поймал в руки черное пятно, похожее на родинку. – А разнесся широко. Уже и до Москвы дошел.
– Я им завтра покажу – клинический случай! – мечтательно пообещал Хрущев. – Всех разнесу. И какой же следует вывод из этой истории, Валериан Григорьевич?
– Вывод прост. Гостиницу эту нужно срыть и построить новую.
– И весь город заодно, – добавил Никита Сергеевич.
Эта была химера, мучившая его давно и доставшаяся в наследство от вождя всех народов, – новые города, построенные на месте старых. Например, на месте Москвы или Ленинграда. В этих двух столицах, старой и новой, жилой фонд был в ужасающем состоянии. Коммуналки-клоповники и подвалы с решетками, за которыми горит тусклый свет и шевелятся, как черви, трудовые немытые люди… Что нужно с ними делать? Срыть. От Москвы оставить один Кремль. От Ленинграда – Дворцовую площадь как памятник Ильичу и революции. От любимого Киева – Крещатик. Хотя и им можно пожертвовать во имя новых, простых и благоустроенных домов, дешевых в строительстве и эксплуатации. Каждой советской семье – отдельную квартиру. Но как протолкнуть эту идею, как разделаться со старьем? Ведь интеллигенция встанет дыбом. Она, как никто, привязана к лепнинке, бабушкиным сундукам и пыли, от которой чихает остальная страна. Может быть, уйти в тайгу и там построить новые благоустроенные жилища? Улицы-сады и площади-аэродромы, на которые в будущую войну, если она все же случится, будут приземляться наши истребители? Именно в тайгу! Вырубить все к чертовой матери!..
Никита Сергеевич почувствовал, что возбудился. Если бы он был сейчас в семье, то его умница-жена, от одного вида которой хотелось спать у нее под боком, прочла бы ему вслух Пушкина, «Сказку о рыбаке и рыбке», и Хрущев бы успокоился, отметив про себя, что старуха из стиха уж слишком напоминает Сталина. Тот все время тоже чего-то хотел, никогда не был доволен и, наконец, умер, подавившись лишним куском…