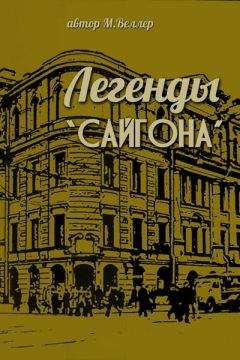— Да все я про тебя знаю, глупый… — Какие там грешки у матроса в рейсе. Какая жена этого не понимает. Дурачок; нашел время.
— Да нет, Маш, я правда…
— Ладно тебе сейчас. Иди ко мне…
Но он отодвигается слегка, выпивает рюмку, закуривает и произносит:
— А вот что бы ты сказала, если б оказалось, что я в чем-нибудь виноват?
— Кто ж ни в чем вовсе не виноват. Наверно, простила бы как-нибудь…
Он настаивает:
— Нет, Маш, а если что-то серьезное? Если б я, скажем, преступление совершил?
Она уже в сон обрубается, вот пытает, завел шарманку…
— Ой, ну какой ты преступник… Давай поспим…
— Нет, а если серьезное? Ну, скажем… человека убил.
Нет — вы понимаете вот это движение русской, Достоевской пресловутой души?
— Да куда ж тебе, — жалеет его, — человека. Ты и муху-то убить не можешь… — И похрапывает уже.
То-есть не принимают всерьез, подвергают сомнению способность его души к крупным поступкам! пусть к злодеянию, но…
— А если? — толкает ее, не отстает.
— А если — так смотря кого, есть такие, что я бы сама убила. — И норовит заснуть.
— Что, — спрашивает, — и простила бы?
Гладит она его по щеке, прижимается теплым телом: ну конечно простила бы, куда ж она денется. Все хорошо, спи, милый…
Но он ее пихает локтем для бодрствования, и говорит:
— А ведь я, Маша, правда человека убил.
Сколько можно валять дурака, убил так убил, а теперь пора спать, через час детей поднимать в школу.
— Не веришь мне?
— Всему я верю, не мучь ты меня!
Она ж его любит! верит ему! ждет, детей воспитывает! не может он от нее такое в душе таить, обманывать ее!..
— А дело так было, — говорит он.
И рассказывает ей всю историю.
И закончив, гасит последнюю сигарету, вздыхает со скорбью и гигантским облегчением и вытягивается в постели, чтоб теперь спокойно заснуть. И отрадно ему до слез и спокойно, что и он теперь чист и честен перед ней, и она у него такая, что все поймет и простит.
А жена смотрит на него; смотрит; и говорит:
— Вить, а Вить…
— Что?
— А ты бы сходил покаялся…
— Куда еще?..
— Ну куда… в милицию.
С него от этого предложения весь сон слетает:
— Ты… чо?
— Я ж вижу, ты мучишься… а так тебе легче будет…
— Ты что, — говорит, — всерьез? Посадят ведь.
— Если сам покаешься — тебе снисхождение сделают.
— Кто — милиция? они сделают.
— Обязаны. Закон такой есть — явка с повинной.
Юридические познания жены вгоняют его в дрожь.
— Ты что, — говорит, — хочешь одна с детьми остаться, что ли? Или надоел, другого завести успела? а меня, значит — побоку и в зону, благо и повод подвернулся? Ах ты сука!
Но у нее в глазах уже засветился кроткий свет христианского всепрощения, и она его материнским голосом наставляет:
— Ты не бойся. Я буду хранить тебе верность, посылки посылать буду, на свидания ездить. Детей выращу, воспитаю, о тебе им все рассказывать буду. А тебе за хорошую работу срок сократят. Я тебя обратно в квартиру пропишу.
— Да ты что, — головой мотает, — да на фига ж тебе это надо?..
— Нет, — говорит, — Витя, ты со мной по-честному — и я с тобой по-честному. Уж надо по совести, по справедливости. А иначе я не смогу.
Он все цепляется за надежду, что она невсамделишно, не всерьез. Какое там.
— Никуда я не пойду, — говорит как можно спокойнее. — Ты что?
— Как же ты людям в глаза смотреть будешь? А я как людям в глаза смотреть буду?..
— Плевал я на твоих людей вместе с их глазами!
— А тогда, — говорит печально, — я сама на тебя заявлю, что ты виновник…
— Посадишь?!
— Ты не бойся. Так тебе же лучше будет. Я буду хранить тебе верность… — и т. д. и т. п.
— Кто ж тебе поверит?!
— Сам говорил — у вас вся команда в свидетелях.
Ну… Эх. Наливает она рюмки, чокается с ним, целует крепко.
— Ты, — благословляет, — не бойся. Так тебе же лучше будет. — И, подумав, светлеет — утешает: — А может еще, простят тебя. Ведь ты ж не хотел, правда? Это ж как несчастный случай… тем более на первый раз. Да и денег, — добавляет, — там почти и не было.
Утром он совершенно деморализован и разобран в щепки: сломался. Бессонные страсти, алкоголь и душевные терзания — все нервные силы исчерпаны: он трясется и на все согласен — да, раз лучше так — значит, так.
Жена плачет и собирает ему в портфель белье, зубную щетку, мыло и сигареты. Он целует и гладит детей, она в дверях припадает истово к его груди, потом падает на постель, кусает подушку и все плачет.
А он, значит, топает сдаваться в милицию.
10. Не мешкай у цели: иди куда шел
В тюрьму кто же торопится. Поэтому сделал он остановку у пивного ларька, принял душевно пару кружечек, покурил, любуясь на белый свет, зеленую листву, твердь земную и женщин, по этой тверди прелести свои несущие, — хорошо-то как, Господи!.. — и построил маршрут таким образом, чтоб пройти мимо следующего пивного ларька. А от того ларька, добавив, наметил зигзаг в сторону рюмочной. И в рюмочной той, сквозь табачный туман и сивушную радугу, и мужицкий неторопливый гомон (прощай, свобода! я любил тебя) увидел того друга-подвахтенного. Тот тоже в первое утро вылез прогуляться по улицам, душу опохмелить.
По рюмочке: — За благополучный приход!
— А знаешь, — прощается, — я ведь сдаваться иду.
— Кому сдаваться?..
— Ну кому… В милицию.
— Куда?!
— Гм. Вообще-то, наверно, в прокуратуру надо.
— Зачем?!
— С повинной.
— Как это?..
— За повинную, — объясняет, — скидку дают. А по первой судимости могут срок сократить. На треть.
— Т-ты чо — гребанулся?!
— А может, и больше, чем на треть…
— Погоди-ка, — советует друг, — я еще возьму. Тебе мозги поправить необходимо. Ты себя чувствуешь как?
— Да я б, — вздыхает, — в общем, и не пошел бы: жена настояла.
— Ты — жене рассказал?!
— Как же такое скрыть… мы ведь в любви живем; она верит мне.
— Так это она тебе по любви насоветовала в тюрягу идти?!
— Тебе не понять… тут в душе дело… ты любил вообще?..
Другу плохо. Друг берет еще. Погоди, говорит, шлепнем. Куда спешить. Успеешь. И всячески ему вправляет мозги: убеждает. Но этот чем больше пьет, тем больше мрачнеет: твердеет; и цель в его сознании становится все неотклонимее. На автопилот мужик стал.
И ложится на курс: уходит. А друг бросается к автомату — звонить третьему: «Срочно! спускайся вниз! поговорить надо!» — «Что за спех?..» — «Он в прокуратуру пошел!» — «Кто? Чего?» — «Сознаваться!!!»
Тот ссыпается на улицу, они срочно соображают: как? чего? что делать? — высвистывают боцмана. Боцман: «Трах твою в пять!!!» Втроем бегут к артельщику! Первое утро, все дома, все с похмелья, соображается плохо: в команде начинается паника!
Решают: перехватить, напоить до отклюка — и в канал сбросить: кранты. Другие возражают: а жена-то? ведь тоже теперь знает! Горячие головы кричат — и жену следом! А вдруг она уже кому-то рассказала? Кричат: зубы гадам спилить напильником, чтоб все выложили, кому уже растрепали! Самые спокойные возражают: давайте с доктором посоветуемся, он человек умный, образованный, он сообразит.
Доктор: ох; он же всех заложит! Там же все размотают; все сядем.
А наш бедолага движется себе неторопливо зигзагообразным маршрутом от пивной до рюмочной и до следующего ларька, и уже под конец рабочего дня добирается до прокуратуры — в геройском настроении, готовый принять вину и пострадать.
И из прокурорской приемной навстречу ему вываливается половина команды и, тыча в него пальцами, орет:
— Вот он!
— Мерзавец!
— Убийца!
— Держите, уйдет!
Это, значит, пока он пил и страдал, гурьба верных друзей опередила его и хором выложила прокурору: свершил он зло один и втайне, но они бдительно прознали, однако до родного порта молчали из патриотизма. Дабы предотвратить международный скандал и соблюсти репутацию советского Морфлота: не позволим запятнать флаг пароходства! Скрепя души, горевшие праведным гневом: чесались руки за борт гада спустить — но самосуд осуждается советским законом, а закон для них свят. Потому наказали злодею сразу по прибытии на Родину идти в прокуратуру и чистосердечно сознаваться. Да… но так он молил попрощаться с семьей, что снизошли они мягкосердечно (виноваты!..) и дали ему сутки на прощание и сборы: а утром сдаваться и каяться. Однако доверяй, но проверяй: пришли проконтролировать, как честные и сознательные граждане, хотя и излишне гуманные: ну как передумает, скроется, или еще чего по злобе и страху выкинет, оговорит всех!
Прокурор выпучил глаза на это массовое помешательство и поинтересовался, не проходили ли они в Мировом Океане случайно районы испытания империалистами неконвенционного психического оружия? а несвежей туземной пищей случайно не питались?