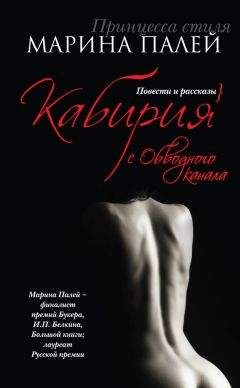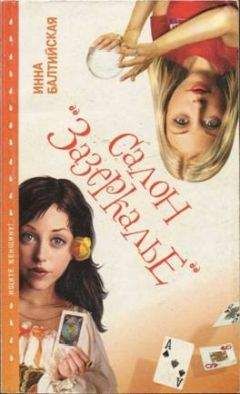...Мы легли в том местечке, на бережку, посреди давно отцветших крокусов, но еще свежей травы, золотых, лимонных и белоснежных нарциссов, обнялись и мгновенно уснули. Через час или два, ближе к рассвету, я проснулась от пения птиц, разжала объятия по-медвежьи теплого в своем мохнатом свитере Хенка, подошла к воде, умылась. Хенк, легко вскочив, подбежал ко мне, быстро содрал свитер, рубашку, стал шумно плескаться. Потом, той же рубашкой вытерев друг друга, мы, взявшись за руки, медленно и торжественно, словно в кирхе, начали восходить на вершину холма, под мощную защиту платана. Там, слегка подрагивая – конечно, не только от холода, – мы, с трогательным, никогда более не повторившимся нежным старанием, помогли друг другу дораздеться, прилегли к стволу платана, под раскидистую его крону, и Хенк, не прилагая к тому особых усилий, вышиб мне мозги.
...Длинный стол в антикрааке Хенка, за которым я с навязчивой регулярностью видела ханжеское, молитвенно-постное, мертвенное, как воск, протестантское семейство, служил мне домашним подиумом. Из нескольких пивных ящиков Хенк соорудил подобие ступенек – и я восходила, взбегала – или даже взлетала на этот импровизированный cat-walk под песенку «Lonely Teardrops» или «The Little Girl of Mine» и так далее – и совершала свой стремительный, искрометный показ – его хватило бы с лихвой на бессчетное множество глаз, но был он предназначен одному Хенку. Когда я чувствовала внутренний сигнал, то сходила, сбегала, слетала – или просто спрыгивала со стола, чтоб заскочить в свою матрасную, где вмиг меняла свое облаченье и облик.
И снова вступала в свои тиранические права магия льда и огня (меж коими, коль верить Данте, без продыху мечутся в аду бедолаги-поэты), снова музыка терзала и гладила два глупых сердца – мужчины и женщины, снова танцевальные извивы моего тела, естественные для каждого моего «я», – возникали на нашем длинном столе, где мы, отдыхая от служения своим аонидам, каждый раз по-новому отдавались беззаконной музе сладострастия – и снова музыка напрямую входила нам в кровь, в наш общий, бушующий кровоток, снова мелькали и множились метаморфозы моего «я» – снова перетекали одни за другими, одни из других, одни в другие, – мои перевоплощения в игуану – пантеру – саламандру – лань – кошку – пуму, – мои тотальные трансформации в змею – цаплю – цветок базилика – ветку сосны; снова махали-помавали крылами, переливались волнами, блистали чешуей заколдованные ткани моих одежд; снова, время от времени, раздавались отчаянные вскрики Хенка: hou zo! stay like this!! keep like this! zamri!!! (этот русский императив он выучил твердо) – и снова, словно из воздуха (а откуда ж еще?), возникали его мгновенные, дьявольс-ки-точные карандашные зарисовки, на которых я узнавала о себе всякий раз что-нибудь новое.
Мы танцевали. Утром, днем, вечером, ночью. Конечно, договоренности на этот счет у нас не было. Допустим, я валялась в своей матрасной– с книжкой и бутылкой вина, а Хенк, раскуривая косячок, заполнял формуляры для какого-нибудь гранта, – или, скажем, я, разомлев, загорала голышом на балконе, а Хенк, отчужденно прищуриваясь, делал быстрые, хищные наброски, – или делала эскизы я сама – для своей концертной одежды, а Хенк готовил что-нибудь вкусное (например, мою любимую шарлотку), – и вот, в любой из таких моментов, вдруг кто-нибудь из нас задумчиво подходил к расползшейся по полу стопке пластинок, находил желаемое, устраивал найденное на диске радиолы – и осторожно ставил иглу в нужную точку – танго или фокстрота, или английского вальса, джайва или румбы – и вот уже Хенк, с убийственной улыбкой, идет ко мне – медленно, по диагонали всего ангара – и, конечно же, чуть небрежно, враскачку, как это делали наши мальчики на школьных вечерах – или иду к нему я, как это делали девочки при объявлении «белого танца», – и вот, Хенк и я – мы, единое целое, – уже танцуем, танцуем, танцуем – причем на мне – одни лишь туфельки на шпильках, заколка в приподнятых волосах да серебряная цепочка на шее, подарок Хенка, – и я, слившись с ним в танцевальной субстанции, ясно чувствую, что моя кожа, моя голая природная кожа, – это самое для меня удобное, наиболее стилистически верное, единственно уместное и самое роскошное из всех моих одеяний.
Мастерской Хенку служил заброшенный пакгауз, который стоял на берегу когда-то судоходного, поросшего камышом ручья и был перестроен (давно распавшейся артелью художников) таким образом, что большую часть его стен и потолка составляло стекло. Свет, беспрепятственно лившийся в это пустое помещение, делал его еще более гулким. Однако «беспрепятственно» свет лился лишь тогда, когда нажатые должным образом электрические кнопки (довольно странные в таком месте) позволяли ржавым металлическим жалюзи так или иначе открыться. Помещение было пропитано запахом тряпья и сырой воды, и эти запахи, наряду с тревожным запахом холодного цементного пола, порождали чувство необратимой заброшенности, которое в английском так точно по звуку зовется «abandonment» – гул, гул, гул.
Хенк объяснил, что предпочитает работать именно здесь – из-за прекрасных условий освещения, а также и потому, что другие, то есть антикрааковские хоромы, пусть даже и не слишком обжитые, все равно уже вобрали в себя мерзость быта: всосанная стенами, полом, потолком, говорил Хенк, эта мерзость ими же затем излучается – что блокирует интуицию, растлевает чувство, убивает мысль, а мастерская, к счастью, обжита пока только стайкой уток, да и то лишь снаружи, в зарослях камыша и кувшинок.
На этом ручье, напротив входа в пакгауз, стояла маленькая старая яхта, уже непригодная к вождению, но, однако же, приспособленная к проявлениям упомянутой бытовой жизни: внутри нее был душ, туалет, что-то вроде походной кухни; в крошечной каюте умещалось некое подобие ложа. Эта посудина – когда-то, видимо, ослепительно-белая, а за последние лет десять приобретшая все оттенки кариозной зубной эмали, – была заполучена Хенком от случайного заказчика в оплату его, Хенковой, работы: оптовый торговец одноразовыми стаканчиками пожелал быть запечатленным на полотне непременно в образе принца Виллема Четвертого Оранского, принимающего титул короля Виллема Первого.
Мы никогда не «занимались любовью» (назовем это так) на яхте, хотя иллюминатор каюты, даже затканный чуть ли не ренессансной паутиной, вполне мог бы предотвратить атаку клаустрофобии. Но нет. Нам не приглянулась эта нора.
А в самой мастерской была заповедная комната – вход в туда был слегка закамуфлирован зеленой бархатной шторой, сплошь в пятнах масляной краски, и только Хенк обладал ключами от потайной дверцы. B особой нише этой комнатки хранились холсты, мольберты, подрамники, краски, тряпки, скипидар, кисти... Это было не подсобное помещение, а именно комната – даже «меблированная» комната: когда подворачивалась возможность, Хенк подрабатывал художником-декоратором на голландских и бельгийских киностудиях – и к нему, «по наследству», переходили сотворенные им же самим декорации. Здесь были столик и кресло десятых годов прошлого века, были плетеные жардиньерки середины девятнадцатого, было даже помпезное ложе какого-то короля Франции – с тяжелым, кое-где прорешеченным молью балдахином. Вообще говоря, я очень любила эту комнатку. Возможно, именно потому, что она была полностью бутафорской.
Но, так же как и в каюте, мы никогда не «занимались любовью» в этом химерическом гнездышке.
Мы раздирали друг друга в пакгаузе, на голом цементном полу. Едва войдя в дверь, еще не подняв жалюзи, мы ничем иным не могли противостоять запаху смерти, запустения и необратимой заброшенности, которые резко возбуждали в нас крысиную похоть, алчбу безостановочных совокуплений, беспощадный звериный гон – и ничем иным, кроме капитуляции перед своей обезумевшей плотью, не могли мы ответить этому плесневому могильному холоду. В итоге нас с размаху швыряло на загаженный ледяной пол, в каменный век, в ямы-пещеры, где получеловеческое существо, так же как и сейчас, слепо и хаотично совокуплялось, мучилось жесточайшей тоской, такой же смутной, как и в постиндустриальные времена, так же ничего не могло о себе понять – и жило до нелепого кратко.
С особенной цепкостью я запомнила почему-то именно эту картину – одну из множества картин Хенка, которые он писал с меня в мастерской.
...По железнодорожным откосам – буровато-рыжим, весенним – живописно поразбросаны остатки снега – словно свежевыстиранные простынки – или льняные холсты на жесткой отбелке... Каждый рельс, одновременно, – это словно бы металлическая рейка под куполом цирка-шапито. И на каждой из этих реек, танцуя, балансирует женщина, мой двойник. Левая дама: светло-каштановая грива, общая хрупкость облика; складки черного, с отливом в серый, шелка; единственное украшение – крупный изумруд на узком указательном. Правая: более темные волосы, еще более ломкая, нервная хрупкость... Длинные, словно каннелюры, складки холодно мерцающих шелков. Длинные угрюмые ресницы... Тяжкий изумруд на тонкой белизне безымянного пальца... Снизу, задрав голову, истекая кровью, жалобно смотрит на них ягуар с полусодранной шкурой... Такой жуткий, почти освежеванный большой кот. По явному, но необъяснимому излучению ощущается, что эти женщины изощренно-чувственно связаны друг с другом, им дела нет до того кровавого угла в треугольнике...