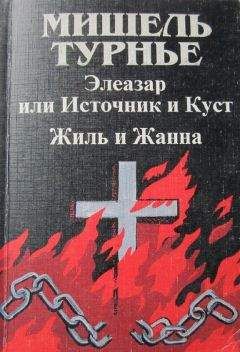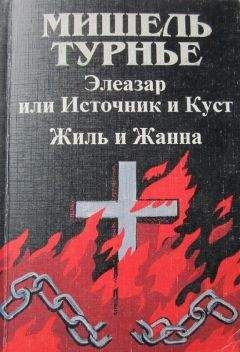Дневник. Теперь я знаю, что окружение людей, при том, что оно есть основное условие существования человеческой личности, вовсе не жизненно важно. Да, оно необходимо, но не обязательно, как смиренно говорят о себе самих Друзья Джорджа Факса, ибо другие люди могут быть заменены тем одним, кому обстоятельства отказывают в общении с окружающими. Заменить данное на созданное есть всеобщая, чисто человеческая задача; верно ведь говорится: главное отличие человека от животного состоит в том, что он лишь от трудов рук своих может ожидать всего, чем природа одаривает зверя, — покрова от холода, орудия защиты и нападения, пищи. Оторванный от общества, я мог либо опуститься на этом острове до животного состояния, ничего не строя и не создавая (с чего я, собственно, и начал свою жизнь здесь), либо, напротив, сделаться эдаким сверхчеловеком, строя и создавая, — тем более что общество этого для меня не делало. Итак, я строил и буду строить, но, по правде говоря, созидание мое идет в двух различных планах и даже в противоположных направлениях. Ибо, если на поверхности острова я продолжаю свой труд по созданию всех сторон цивилизации — земледелия, скотоводства, возведения зданий, управления, законотворчества и так далее, — скопированных с жизнедеятельности человеческого общества и тем самым как бы ретроспективных, — то душа моя претерпевает метаморфозу куда более решительную, рождающую на месте разрушений, причиненных одиночеством, новые, непривычные решения, еще непрочные, еще несмелые, но все менее подходящие под обычные человеческие мерки, послужившие им отправной точкой. Чтобы покончить с противоречием этих двух планов, скажу, что мне кажется невозможным бесконечное его углубление. Неизбежно наступит такое время, когда Робинзон, все более и более дегуманизируясь, утратит право быть губернатором и архитектором все более и более гуманизирующегося острова. Уже сейчас я ловлю себя на некоторых внутренних несообразностях во время моей внешней деятельности. Мне случается работать, совершенно не веря в то, что я делаю, хотя это даже не отражается на качестве и количестве моего труда. Напротив, некоторые усилия приятны именно в силу опьянения бессмысленной монотонностью: ему, этому дурману, нетрудно завоевать поле битвы, покинутое разумом, — поле работы ради работы, без всякого представления о конечном результате. А ведь опасно опустошать здание изнутри до бесконечности: когда-нибудь оно да рухнет. Вполне возможно, что в один прекрасный день этот управляемый, возделанный и застроенный остров совершенно перестанет меня интересовать. И тогда он лишится последнего своего обитателя…
Но в таком случае зачем ждать? Почему бы сейчас же не решить, что момент этот настал? Почему? А потому, что при нынешнем моем душевном состоянии это означало бы безвозвратно сгинуть в болоте. Во мне зарождается, зреет новый космос. Но зарождающийся космос зовется хаосом. И этот остров, мною управляемый, и управляемый все более умело, ибо в деле администрирования можно преуспеть лишь при условии активности, есть мое единственное прибежище, последний оплот спасения от хаоса. Остров стал моим избавителем. Он и сейчас каждодневно защищает меня от грозящей беды. Однако космос не сдается. Та или иная часть хаоса одерживает во мне временную победу. Например, я вообразил, что нашел в своей нише верную формулу жизни. То была ошибка, но сам по себе опыт оказался полезным. За ним последуют и другие. Не знаю, куда заведет меня это постоянное созидание собственной личности. И узнйю тогда лишь, когда оно будет завершено, выполнено, необратимо. То же происходит и с желанием. Желание — бурный поток, который природа и общество заточили в тесные берега, в желоб, ведущий к вечной мельнице, к неостановимой машине, дабы подчинить вожделение цели, от которой ему, в силу собственных свойств, нет исцеления, — а именно к продолжению рода.
Я лишен своего желоба, своей мельницы, своей машины. За те годы, что рушились во мне все социальные устои, исчезали и те мифы и убеждения, которые позволяют желанию обрести плоть в двойном смысле этого слова, то есть и самому принять определенную форму, и излиться на женскую плоть. Так вот: мало сказать, что желание мое больше не направлено на продолжение рода. Оно даже не знает, на кого ему обратиться! Довольно долго память моя еще питалась воспоминаниями, позволяющими тешить воображение призраками сколь желанными, столь же и бесплотными. Нынче с этим покончено. Память моя иссякла, высохла, как пустой стручок. Я произношу: женщина, груди, ноги, ляжки, распахнутые навстречу моему желанию. И — ничего. Магия этих слов умерла для меня. Это просто звуки, flatus vocis (сотрясение воздуха). Но означает ли сей факт, что желание мое также умерло, не найдя себе объекта? Да нет, никоим образом! Я постоянно ощущаю этот бьющий внутри меня фонтан жизни, только вот он пропадает втуне. Вместо того чтобы послушно направить свою энергию в постель, заранее приготовленную обществом, он брызжет во все стороны, он взмывает к звездам, словно ощупью отыскивая тот единственно верный путь, на котором он сконцентрируется и устремит свою силу к избранному объекту.
Вот почему Робинзон со страстным интересом наблюдал брачные нравы окружающих его животных. От коз и стервятников — да и от прочих млекопитающих и птиц — его с самого начала отвращало зрелище их любовных слияний, являвших, как он считал, мерзкую карикатуру на человеческие отношения. Но зато как интересно было наблюдать за насекомыми! Он знал, что некоторые из них, привлеченные сладким запахом цветочного нектара, забираются в мужские цветы и невольно переносят на своем теле их пыльцу на пестики женских, тем самым оплодотворяя их. Совершенство этого способа оплодотворения, за которым Робинзон следил, разглядывая в лупу Aristoloche syphon (Вид орхидеи), npeисполнило его истинным восторгом. Едва лишь насекомое углубляется в этот прелестный сердцевидный цветок, как венчик, словно по сигналу, смыкается над ним, и вот оно на мгновение оказывается пленником самой пьянящей, самой женственной из темниц. Крошечное мохнатое существо яростно рвется наружу и, ворочаясь в цветке, все облепляется пыльцой. Тут же, по новой неслышной команде, лепестки раздвигаются и выпускают его на свободу; припудренный шмель взмывает в воздух, чтобы спустя миг угодить в другой, столь же ароматный плен, бессознательно и прилежно верша свою службу цветочных Любовей.
Это осеменение на расстоянии — уловка двух растений-супругов, безжалостно разлученных природою, — выглядело, по мнению Робинзона, весьма волнующим и утонченным; временами ему грезилась какая-нибудь фантастическая птица, что, приняв семя Губернатора Сперанцы, долетела бы до Йорка и там оплодотворила его сирую жену. Но, поразмыслив, он пришел к выводу, что эта последняя, столь давно не получая от него никаких известий, наверняка уже сочла себя вдовой, а может быть, даже устала горевать и вторично вышла замуж.
И грезы его приняли иное направление. Он заинтересовался маневрами шмеля-наездника, который упорно кружил над определенным видом орхидеи — Ophrys bombyliflora, не проявляя при том ни малейшего намерения проникнуть в нее, чтобы собрать нектар. Робинзон провел над орхидеей долгие часы с лупой в руке, пытаясь разгадать секрет поведения насекомого. Для начала он обнаружил, что цветок своим строением удивительно напоминал брюшко самки шмеля, а сердцевина в точности воспроизводила форму ее полового отверстия и вдобавок источала специфический дразнящий запах — он-то, вероятно, и притягивал влюбленного, который не совращал, но обольщал цветок и лишь потом вершил любовное действо, привычное для его собственного вида. Шмель приступался к орхидее в такой позиции, чтобы пыльца из двух семенных коробочек прилипла к его надглазью, снабженному также двумя клейкими бугорками, после чего вполне ублаготворенный любовью и увенчанный парой пыльцевых рожков, продолжал сновать от мужского цветка к женскому, обеспечивая их будущее и при том воображая, будто трудится на благо собственного потомства. Подобный шедевр хитроумия и находчивости заставлял сильно усомниться в серьезности намерений Создателя. И в самом деле: кто же задумал природу именно такою — бесконечно мудрый и величественный Создатель или причудливо-капризный Демиург, которого Лукавый подзуживал к самым безумным комбинациям? Окончательно позабыв о благопристойности, Робинзон вообразил, будто и некоторые деревья на острове смогут использовать его — как орхидеи используют шмеля — для переноса своей пыльцы. И тотчас же его воображение заработало вовсю: ветви деревьев приняли женские формы, их сладострастно изогнутые тела, казалось, готовы были принять человека в свои объятия…
Тщательно обследовав остров, он и в самом деле нашел панамское дерево, чей ствол, повергнутый наземь молнией или ветром, раздваивался, слегка приподнимая кверху пару мощных ветвей. Кора дерева, гладкая и теплая, была совсем нежной в развилке с углублением, поросшим кудрявым шелковистым мхом.