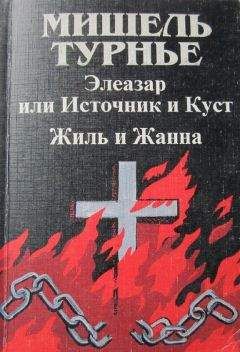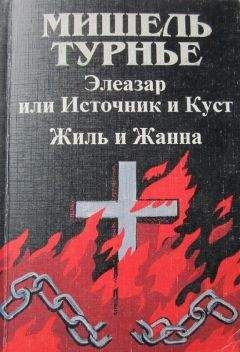Робинзон стоял в мягкой впадине луга, изрезанного мелкими овражками; и пригорки, и рытвины поросли травой розового цвета и цилиндрического — точно у волос — сечения.
«Ложбинка, — прошептал он, — розовая ложбинка…» Это слово — ложбинка — вызывало в его памяти другое, близкое по звучанию; оно обогащало то, первое, целым сонмом новых значений, только вот он никак не мог вспомнить его. Тщетны были попытки вырвать это слово из забытья, которое упорно не отпускало его. Ложбинка… ложбинка… И вдруг он увидел женскую спину, чуть пухловатую, но с величественной осанкой. Выступы лопаток мягко вздымали гладкую кожу. Ниже этих красивых выпуклостей тело сужалось, переходя в тонкую, изящную, четко очерченную талию с продольной ложбинкой, покрытой светлым пушком, расходящимся по линиям мускулов. БЛОНДИНКА! Это звонкое слово внезапным колокольным гулом отдалось у Робинзона в голове, и он вспомнил, явственно вспомнил, как его пальцы некогда и впрямь поглаживали бледные волоски, расслабившись в этой узкой мягкой впадинке, где таится до поры энергия любовного спазма и источник отдохновения, где находится точка приятных ощущений у зверей и центр тяжести у человеческого существа. Блондинка… Робинзон возвращался к себе в Резиденцию, и в ушах его набатным звоном гудело это давно забытое слово.
Дневник. Странная оторопь сопровождает наше каждодневное пробуждение. Она вернее всего прочего подтверждает, что сон есть подлинный опыт жизни и как бы генеральная репетиция смерти. Из всего, что может приключиться со спящим, пробуждение — наверняка самое для него нежелательное и неожиданное. Ни один кошмар не способен потрясти так сильно, как этот внезапный скачок к свету, к другому свету. Неоспоримо, что для всякого спящего его сон — состояние окончательное и бесповоротное. Душа, вспорхнув, покидает тело, не горюя о нем, не заботясь о возвращении. Она уже все позабыла, все отринула, все отдала небытию, как вдруг грубая сила тащит ее назад, понуждая снова втиснуться в постылую телесную оболочку, вернуться к докучному земному существованию.
Итак, сейчас я лягу в постель и позволю сну навсегда увлечь меня в его сумеречное царство. Странное помешательство! Но спящий — это и есть помешанный, который считает себя мертвецом.
Дневник. Мне не дает покоя проблема существования. Если бы несколько лет назад мне сказали, что отсутствие других людей однажды заставит меня усомниться в Существовании, я бы лишь усмехнулся. Вот так же усмехнулся я, когда среди цитат, доказывающих существование Бога, находил постулат о всеобщем согласии. «Большинство людей, во все времена и во всех странах, верит или верило в существование Бога. Стало быть, Бог существует». Вот ведь глупость! — думал я. Глупее доказательства не придумаешь. Какое убожество в сравнении с чудесным по силе убеждения аргументом онтологии (раздел философии, учение о бытии, его основах, принципах, структурах и закономерностях; термин введен немецким философом Р. Гоклениусом) другого нет и быть не может. И оно доказывает не одно только существование Бога.
Существовать — что это означает? Это означает быть вне, sistere ex (находиться вне). Все, что находится вовне, существует. Все, что находится внутри, не существует. Мои мысли, мои образы, мои сны — не существуют. Если Сперанца — только ощущение или совокупность ощущений, она не существует. И сам я существую лишь тогда, когда убегаю от себя к другим.
Но тут возникает одно затруднение: то, что не существует, упорно старается доказать обратное. Все несуществующее отличается мощным и дружным стремлением к существованию. Какая-то центробежная сила выталкивает наружу живущие во мне мечты, видения, планы, фантазии, желания, навязчивые идеи. Ибо то, что не существует, — претендует. Претендует на существование. Этот ничтожный призрачный мирок ломится в двери большого реального мира. Но ключ от дверей в руках у других. Дома, когда я во сне мучился кошмарами, жена трясла меня за плечо, чтобы разбудить и отогнать страшный сон, претендующий на существование. Тогда как нынче… Но к чему непрестанно возвращаться к этой теме?
Дневник. Все, кого я знал, давно считают меня погибшим. Моя убежденность в том, что я существую, наталкивается на их единодушное отрицание. И, что бы я ни делал, во всеобщем представлении упрочился образ мертвого Робинзона. Одного этого уже достаточно, чтобы — не убить меня, конечно, но оттолкнуть, изгнать за пределы жизни, туда, где ад смыкается с небом, — короче сказать, в лимб. Сперанца — вот он, этот Тихоокеанский лимб…
Эта псевдосмерть помогает мне, по крайней мере, осмыслить глубокое, существенное и некоторым образом фатальное соотношение между сексуальностью и смертью. Находясь ближе к смерти, чем кто бы то ни было, я одновременно вплотную подошел к источникам сексуальности.
Половые отношения и смерть. Их тесная связь впервые стала понятна мне из бесед с Сэмюэлем Глоумингом, жителем Йорка, старым ботаником и большим оригиналом, — я любил болтать с ним вечерами в его лавке, забитой чучелами зверей, увешанной пучками сухих трав. Весь свой век он размышлял над тайнами мироздания. И объяснял мне, что бесконечному множеству индивидуумов, так или иначе отличающихся друг от друга, дарована жизнь, чтобы предоставить им некое, также бесконечное число шансов на выживание в природных катаклизмах. Предположим, земля остынет, превратившись в кусок льда, или же, напротив, солнце раскалит ее до состояния каменной пустыни: большинство людей погибнет, но благодаря разнообразию человеческого вида некоторое их количество все-таки выживет; особые свойства организма позволят оставшимся приспособиться к новым условиям существования. Из этого человеческого многообразия и проистекала, по словам старого ботаника, неизбежность воспроизведения или, иначе говоря, превращения одного индивида в другого, более молодого; он настаивал на том, что человеку приходится жертвовать собой ради сохранения вида, поскольку природа тайно предназначила его именно для этой цели — акта воспроизведения потомства. А отсюда следует, говорил он, что сексуальное влечение есть живое, угрожающее, смертоносное свойство всего человеческого вида, заложенное в каждом отдельном человеке. Воспроизвести — означает породить следующее поколение себе подобных, которое неумышленно, но неумолимо столкнет своих предшественников в небытие. Едва только родители перестают быть необходимыми, как они становятся лишними. Ребенок вышвыривает тех, кто дал ему жизнь, на свалку так же естественно, как он доселе принимал от них все нужное для своего развития. Напрашивается неоспоримый вывод: инстинкт, сближающий особей разного пола, есть инстинкт смерти. Таким способом природа решила скрыть свою игру, разгадываемую, впрочем, очень легко. Любовники, воображающие, что преследуют цель эгоистического наслаждения, в действительности безрассудно встают на путь ужаснейшего из самоотречений.
Таков был итог моих размышлений, когда мне представился случай проехать по Северной Ирландии, незадолго до того пораженной ужасным голодом. Выжившие, худые как скелеты, люди призраками бродили по улицам деревень; мертвых сжигали на кострах, чтобы избежать эпидемии, еще более страшной, чем голод. Большинство умерших составляли мужчины — верно говорят, что женщины легче переносят лишения, — и все эти трупы отличались одной странностью: тела, истощенные голодом, лишенные плоти, похожие на жутких выпотрошенных кукол с пергаментной кожей и обвисшими сухожилиями, являли здоровые, крепкие половые органы, которые, в отличие от других членов, вздымались так торжествующе-бесстыдно, с такой чудовищной мощью, как, вероятно, никогда не бывало прижизни их несчастных обладателей. Этот мрачный апофеоз органов родопродолжения проливал странный свет на речи Глоуминга. Я тотчас представил себе драматический поединок между силой жизни — самим человеком — и силой смерти — его половым органом. Днем человек — бодрый, напряженный, бдительный — прячет, притесняет, унижает нежеланного гостя. Но под покровом ночи, истомы, тепла, забытья — того забытья, что принимает форму острого желания, — изгнанный было враг встает, воздымает свой меч и низводит человека до животного, до любовника, погружая его в преходящую агонию, а после смежая ему веки; и любовник отдается этой малой смерти — сну, лежа на земле, утопая в беспамятном блаженстве отказа от самого себя, полного самоотречения.
Лежа на земле… Эти три слова, столь естественно вышедшие из-под моего пера, быть может, и есть ключ к загадке. Земля неодолимо притягивает сплетенные тела любовников, чьи губы слились в поцелуе. Она убаюкивает их после страстных объятий, даруя счастливый сон, сменяющий любострастие. Но она же поглощает и мертвых, пьет их кровь, съедает их плоть, чтобы возвратить их душу космосу, который они покинули на краткое мгновение жизни. Любовь и смерть — эти две ипостаси поражения человека — в едином порыве устремляются к одной и той же стихии, к земле. Ибо и та и другая — земного происхождения.