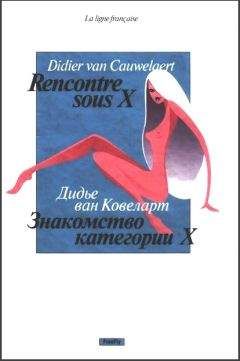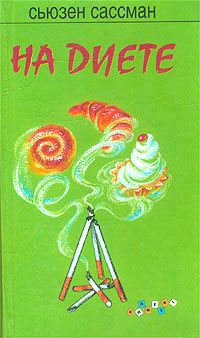Хруст сырой моркови смешивается с шипением жира, капающего на угли, и перезвоном, доносящимся с задницы президента, откуда он поочередно достает свои телефоны. Не отнимая аппарат от уха, он указывает официантам на шашлыки, которые, по его мнению, уже готовы, и прижимает телефон к груди, чтобы спросить, достаточно ли они прожарены. В ответ сыплются комплименты. Он так широко улыбается, что видны его уродливые десны — такого мы не видели, даже когда его команда выиграла Кубок Франции. Грустная все же картина: «робокоп», возглавляющий предприятие с автопарком более четырех тысяч грузовиков, балдеет от вкуса своей морковки и хрустящей корочки мяса. Если уж он и хотел вложить во что-то деньги, купил бы лучше ресторан с «мишленовскими»[20] звездами, а футбол оставил бы тем, кому он интересен.
Я то и дело поглядываю на Копика, который все время смотрит только в свою записную книжку. В левое ухо спортивный директор напевает ему имена знаменитостей, которых нужно купить, а финансовый директор сыплет в правое размерами выплат по трансфертам. Чертовски хочется вернуться на родину, и я собираю волю в кулак. Что же делать? Мой агент ясно выразился: они подписали меня на три года с правом продления, а то, что меня задвинули в дальний угол и забыли, не дает мне права уехать. «Пока по стратегическим соображениям они не выпускают тебя на поле, но считают, что ты хорош, поэтому тебя придержат до поры до времени, и это вполне логично, ведь если тебя отпустить, ты перейдешь в команду соперника. Тебе это должно льстить». Я еще надеялся, что «Манчестер» захочет взять меня с правом выкупа: самому богатому клубу мира не отказывают. Но «Красные дьяволы» только что выписали вратаря из «Бафана Бафана», и для продвижения сопутствующих товаров на местном рынке я как представитель ЮАР им больше не нужен. А если информация о моей травме распространится в интернете, то меня даже в сборную на Кубок Африки не позовут: моя страна, в конце концов, забудет футболиста, который никогда не выходит на поле, и я закончу свою карьеру как Демарша: стану уцененным товаром.
— Nein! Rufen Sie mich Montag an!
Похоже, президент ошибся карманом: на этом мобильном не установлен фильтр звонков, нежелательный вызов застал его врасплох, вот он и злится на немецком, пытаясь избежать переговоров, к которым не готов. Тем временем шашлык пригорает, он выключает телефон, предлагает мясо желающим. Все отводят глаза. 12-й воодушевленно поднимает руку. Копик помечает что-то в блокноте. Надеюсь, такое самопожертвование сотрет из памяти пенальти, который он смазал в последнем матче.
Женщина, которая разливала соки, теперь носит графин с красным вином. Президент поручает шашлыки директору юридического отдела, а сам идет к столику нападающих, чокается с 7-м номером, о котором писали на прошлой неделе в журнале «Гала», что он купил виноградник.
— Что вы об этом думаете, Азими?
7-й пробует вино, полощет его во рту, прищуривает глаза, глотает и небрежно с видом эксперта произносит:
— «Сент-Эмильон».
— Это действительно бордо, — отзывается президент с учтивой любезностью.
— Я и говорю! — подчеркивает Азими.
— С той лишь разницей, что это грав, — тихо замечаю я. Президент поворачивается ко мне, от удивления одна бровь у него ползет на лоб. У остальных такая же реакция.
— Слыхал, чего малой там лепечет? — смеется 7-й. — Мне послышалось, он сказал «бурда».
Взрывы смеха постепенно стихают по мере того, как президент подходит ко мне все ближе, внимательно в меня всматриваясь.
— Год?
Я выдерживаю паузу. Игроки основного состава толкают друг друга локтями, ожидая моего позора.
— Не уверен… 83-й, может быть. Хотя нет…
Подношу к носу стакан, из которого еще не пил, вдыхаю пару раз аромат и киваю:
— 85-й.
Президент выслушивает мой ответ без особых эмоций. Никаких саркастических насмешек по этому поводу не звучит, в воздухе повисает тишина — все затаились.
— Уверены? — осторожно, но все же с легким беспокойством спрашивает он.
— Абсолютно. «Шато-Миссьон-о-Брион», Пессак-Леоньян, один из сортов грава, 1985 год.
Президент хватается за спинку стула Вишфилда, тот тут же уступает ему свое место.
— Я впечатлен, — говорит он, усаживаясь рядом. — Почему я ни разу не видел вас на поле?
— А почему меня должны туда выпускать? Только потому, что я угадал ваше вино?
Голос мой звучит спокойно и ровно, но тишина стоит такая, что меня слышат все. Точка-ком спешит загладить инцидент, выдавая мой секрет:
— Его отец — известный в ЮАР винодел.
— Понятно, — улыбается президент.
— Что вам понятно?
Я произнес это с таким презрением, что Точка-ком в ужасе пятится назад.
— Что вы должны были дать мне шанс? Что нельзя так поступать с игроками? Что у меня есть талант, потому что мой отец натаскал меня, как собачку, и я теперь могу угадывать сорт вина по запаху? Не отец научил меня, а ваш мусорный бак! Когда мы обходили замок, я видел пустые бутылки перед окнами кухни. Вот и все.
Под тентом стоит гробовая тишина. Все ждут реакции президента, а тот сверлит меня взглядом, размышляя над дальнейшими действиями. Я продолжаю:
— И больше всего, господин президент, меня бесит то, что мы для вас как эти шашлыки. Вы пытаетесь казаться человечным, но вам все равно, пригорят они или нет: никто вас не осудит, да и всегда найдется новое мясо для жарки. А мы, как же мы? Вы отвратительно со мной обошлись: отправить меня на поле, чтобы раздразнить фашистов, а потом задвинуть меня подальше. Но еще отвратительней то, что это сделали именно вы. Я был без ума от счастья и гордости, когда приехал на родину команды, выигравшей чемпионат мира: я ехал играть с богами, мэтрами, друзьями, и что же я вижу? Козни, вранье, подозрения, ненависть… Даже хуже, чем ненависть: равнодушие. Да, я и вправду заигрывался, в этом мой недостаток, но здесь я мог бы исправиться, приспособиться, будь я вам нужен, а меня отправили в расход в первом же матче…
Подступивший к горлу ком не дает мне продолжить, я так и стою, повернувшись к месье Копику, который смотрит в тарелку и водит по ней кусочком утки.
— Вы так и сказали следователю Курнон? — проговаривает президент, делая ударения на каждом слове.
— А что вам с того? Вы и ее отстранили.
Он поднимается, поворачивается ко мне спиной и обращается ко всем остальным:
— Ничего в ее досье не было. Сплошной бред и фантазии истерички, мелкой сошки из судебного ведомства, которая хотела сделать себе рекламу и имя в прессе, пытаясь очернить наш клуб. Я знаю, как она цеплялась к некоторым из вас, ждала, что у кого-нибудь сдадут нервы — чему мы только что были свидетелями, — но будьте уверены, вам будет оказана полная поддержка. Никто вас больше не побеспокоит.
Я жду, когда возгласы одобрения стихнут, и сообщаю президенту, что свою поддержку он может засунуть себе в задницу: я ухожу, разрываю контракт, возвращаю ему деньги, квартиру и тачку — пусть пришлет ко мне агента, я подпишу документы и привет. Мне девятнадцать лет, я не желаю больше быть ни пенсионером, ни рабом. Меня пытаются догнать, кричат вслед «дурак», но я бегу, не останавливаясь, ведь на самом деле плевать они хотели, вернусь я или нет, им главное — засветиться, выслужиться.
Я бегу по лужайке прямиком к воротам, перемахиваю через них и оказываюсь на дороге. Дальше иду пешком в сторону деревни, вытянув руку, пытаюсь поймать машину. На углу у церкви останавливается грузовик «Дарти»[21]. Шофер — парень моего возраста, он только что доставил холодильник и едет обратно в Париж. Он слушает «Скайрок». Выехав на дорогу, делает тише и спрашивает меня, чем я занимаюсь по жизни. Я отвечаю, что я безработный, нелегальный иммигрант. Он извиняется, делает громче, и до меня доходит: я на самом деле стал тем, кем притворялся перед Тальей. Я покончил с жизнью, которую скрывал от нее, разом избавившись от необходимости и лгать, и говорить правду. Я ни о чем не сожалею, однако проходит несколько минут, и гордость за поступок рассеивается вместе с выхлопными газами машин, застрявших в пробке.
«Дарти» высаживает меня на Монпарнасе, оттуда на метро я добираюсь до Нейи. Из глубины гардеробной вытаскиваю старый желтый пластиковый чемодан, с которым когда-то приехал сюда. Складываю в него пять-шесть вещей, которыми дорожу: письма матери, футболку «Аякса» с автографом Чаки Натзулу, старую одежду. Остается лишь найти скромную недорогую гостиницу, куда пускают с собаками, и сыграть завтра со своей командой юниоров в Ля-Курнев. А потом ждать восьми вечера понедельника, чтобы больше не чувствовать себя лжецом в глазах Тальи.
Я сижу на кухне, передо мной — пиво, включаю мобильный. Механический голос объявляет, что получено девять новых сообщений, все они от моего агента. С каждым новым посланием его тон меняется от сдерживаемого гнева к нетерпению, затем от возбуждения к беспокойству. В трех последних содержится лишь его имя и время звонка. Я перезваниваю. Он меня поздравляет: «Браво, а ты тот еще хитрец, оказывается!» Он не знает, что за номер я выкинул у президента, но с ним связался Артуро Копик — ему срочно нужно со мной побеседовать.