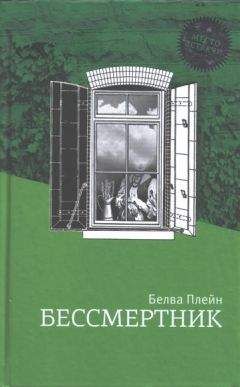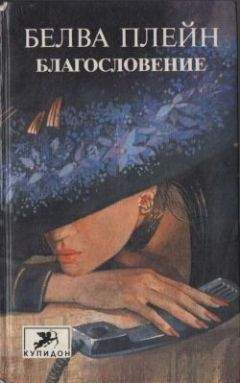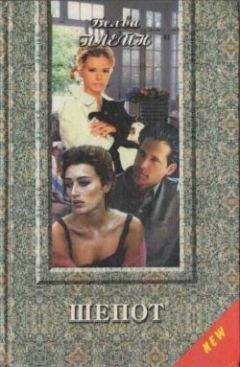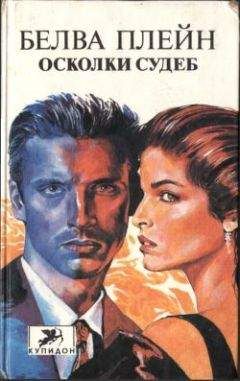Однажды к ней забежала Руфь. Решили прогуляться до реки: впереди Мори на трехколесном велосипеде, сзади они. Руфь болтала без умолку, перечисляя успехи своих детей. Гарри перескочил через класс, учится по-прежнему лучше всех. У Ирвина деловая голова, пойдет по стопам отца, будет помогать ему на фабрике. Но в семье непременно должны быть девочки, это такая радость, и как же хорошо, что они поступили в школу уже в городе, в приличном месте! Только Сесилечка слишком много весит: ест конфеты целыми днями — не остановишь…
Тяжелый влажный воздух давил точно ноша. Анна дышала с трудом.
— Ой, да ты еле идешь! — заметила вдруг Руфь.
— Нет-нет, все нормально. Послушай, Руфь, ты ведь всякое видела в жизни, я расскажу тебе сейчас одну очень печальную историю… Здесь, неподалеку живет девушка — кумушки судачат о ней с утра до вечера, — ну, в общем, у нее был роман, связь… Мне ее так жаль. Понимаешь, она замужем, и она думает… она знает, что отец ее ребенка — не муж… Представляешь, какой ужас!
— И ты ее жалеешь?! По-моему, она просто шлюха!
— Ну да, конечно, она совершила страшный грех… Но все-таки таких женщин можно пожалеть… Она, бедняжка, сделала ошибку, одну-единственную, а теперь… Я даже не знаю, чем ее утешить…
— Утешить?! Мой тебе совет, держись от нее подальше. Нам такие подруги ни к чему.
— Да она никакая не подруга… Но что с ней станется?
— Это совершенно не твоя забота! Что посеешь, то и пожнешь — пускай сама расхлебывает. Верно?
— Да, пожалуй, ты права.
Новое существо во чреве подрастало, шевелилось. Я должна любить его, мечтать о его появлении, равнодушно думала Анна. Но заставить себя не могла. Бедное, бедное дитя, оно живет во мне, кормится мною, а я его не хочу. Ночь напролет Анна лежала без сна. Пальцы Джозефа разжались — уснул; засыпая, он всегда держал ее за руку. Если б можно было рассказать ему, выплакаться, если б он мог помочь!
Если бы… Но нет, признаваться нельзя. Порой слова правды едва не срывались, и Анна в страхе сжимала губы еще крепче. Слова эти имели свой вкус. И форму, и цвет — кроваво-красные в черной кромешной тьме. Даже звук имели они: тот, которым прорежут, вспорют тишину комнаты.
Ужас пробегал по телу живой и колкий; волоски на руках в ознобе вставали дыбом.
Джозеф говорил:
— Интересно, как воспримет ребенка Мори? Мори, кого ты хочешь — братишку или сестренку? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Туг, на углу, квартира освобождается. Пять комнат на втором этаже. Пора нам из этой ямы выбираться. А через годик-другой вообще заживем! Может, и на Вест-Энд-авеню переедем. Чем черт не шутит! По крайней мере, есть за что бороться, а? — Он подкидывал Мори повыше, ловил и, усадив к себе на плечо, спрашивал: — Как, сынок? Хочешь жить на Вест-Энд-авеню? Понравится тебе там?
Господи, он не видит, как мне плохо! Я же задыхаюсь, погибаю…
Анна сняла с полки сборник стихов. В нем три раздела: «Утешение. Мужество. Страдание». Прочитала «Invictus» Хенли — напыщенная галиматья! И дальше — до Киплинга и Шекспира. Утешения не было. Мужества тоже не прибавилось. Все надо искать в самой себе. Она отложила книгу.
Однажды в субботу днем сказала:
— Я хочу присмотреть себе шляпку. Побудь с Мори, ладно?
— Конечно. Но ты-то куда? Того и гляди дождь пойдет.
— Возьму зонтик. — Надо во что бы то ни стало вырваться из дома. Ночью ей снился нож, длинный, зловеще кривой нож. Кто-то приближался к ней во сне с занесенным для удара ножом. Но кто возьмет на себя труд ее убить? Нет, она должна сама, сама…
По всей ширине Бродвея — машины, катят и катят нескончаемым потоком в потоках дождя. Надо просто шагнуть под троллейбус, вот сейчас, когда он едет с горки, просто сойти на мостовую — и все. Очень просто… А Мори? Как же он? Мой родной, мой мальчик?
Она пошатнулась под порывом ветра. Сердце стучало громко и гулко. Семимесячный плод оттягивал чрево тяжким бременем. Нет, мужества нет. Ни капли. Сейчас упаду. Споткнусь, упаду и выкрикну правду — всю, до последнего слова… Я больше не могу, я схожу с ума…
Ветер плескал ей в лицо пригоршни маслянистого дождя, струйки стекали за воротник, мокрая шерсть липла к шее. Новый порыв ветра, новый натиск обезумевшего ливня. Небеса потемнели, сомкнулись. Люди, чертыхаясь, рванули в арки, под козырьки подъездов и карнизы — лишь бы укрыться. Под ногами оказались широкие плоские ступени: почта или школа? По ступеням бежали люди. И Анна поднялась следом — куда-то, где сухо и тихо.
Церковь. Впервые в жизни она попала в церковь.
По стенам, с трех сторон, статуи и картины. Молодой, полный жизни и сил человек с яркими соломенно-желтыми волосами извивается на кресте. Женская фигура из бледно-голубого гипса: должно быть, Мария, они зовут ее Матерью Божьей. Анна закрыла глаза. Шляпку я так и не купила, Джозеф удивится, что я шаталась целый день под дождем, да еще без толку.
Зазвучал орган. Смолкнул. Снова зазвучал. Кто-то упражняется. Музыка курилась, точно дым, взмывала вверх за золоченым алтарем и оседала клубами по углам. Анна села, уткнулась лбом в спинку передней скамьи и заплакала.
Боже, услышь меня. Я пошла бы в синагогу, но она теперь закрыта. Нет, не пошла бы — вдруг кто увидит? Боже, я не знаю даже толком, верю ли я. Джозеф, тот верит по-настоящему — вот бы и мне так… Но все-таки, Боже, услышь меня и подскажи, что делать. Мне двадцать четыре года. Только двадцать четыре. Впереди еще столько лет, у меня нет сил их прожить.
Чей-то голос:
— Дочь моя, у вас горе?
Подняла глаза: молодой священник в длинной черной сутане, вместо пояса — металлическая цепь. Никогда прежде она не видела священника так близко. Дома, в местечке, они, завидев священника, переходили на другую сторону улицы.
— Я не католичка, — сказала она. — Просто там дождь…
— Это не важно. Сидите, сколько хотите. Но быть может, вы хотите поговорить?
Живой человек, с хорошим добрым лицом. И она никогда больше его не увидит.
— Да, у меня горе. Я хотела бы умереть.
— У каждого в жизни бывает такой день. — Священник присел на переднюю скамью.
С чего же начать?
— Муж мне верит, — прошептала она. До чего ж глупое начало. — Он говорит, что может доверять на всем свете только мне одной. — Священник молча ждал продолжения. — Он говорит, что знает: я никогда ему не солгу. Никогда…
— А вы солгали?
— Хуже. Намного хуже. — Она отвернулась, не смея взглянуть на священника. Нет, на статуи и картины тоже нельзя. Лучше на пол и на свои руки на коленях. — Но как же, как я вам-то скажу? Вы подумаете, что я… Вы не захотите слушать… Вы такого не слышали…
— Я слышал все.
Нет, такого — никогда. Я не могу произнести это вслух. Не могу. Но и в себе носить не могу. Не выдержу больше.
— Это связано с ребенком, которого вы ждете? Верно?
Она не ответила.
— Ребенок не от мужа?
— Да, — прошептала она. — Господи, лучше бы я умерла!
— Вы не вправе произносить такие слова. Только Богу известно, что лучше, Он решает сам.
— Но я не заслужила, мне нельзя жить!
— Жизнь заслужил всяк живущий. И ребенок ваш, еще не рожденный, тоже.
— Если б я могла искупить вину! Понести наказание…
— Вы что же, думаете, что останетесь безнаказанны? Вам предстоит искупать вину каждый день, до конца жизни.
Орган, было смолкший, заиграл вновь. Тихая музыка курилась туманной дымкой.
— Я искала в себе мужество сказать Джозефу правду. Но нет, я не могу.
— Зачем говорить ему правду?
— Чтобы быть честной. Чтобы очиститься.
— Какой ценой? Лишив его покоя?
— Вы думаете?
— А вы сами задумайтесь, хоть на миг.
Но думать нет сил. Все как в тумане, а ясно проступает только одно — лицо сына. Он сидит на кухне, на полу, и ест яблоко.
— Быть может, вы любите того, другого человека?
— Нет. Я люблю мужа. — Как легко это сказалось. И это правда. Правда, хотя… Все, все: покой, самая жизнь, уважение к себе, а главное, Мори, сокровище мое, Мори — на одной чаше весов, а на другой — краткое, ни с чем не сравнимое блаженство.
— Так, значит, мне с этим жить?! Всю жизнь?
— Живут же слепые. Живут калеки. Люди рождены, чтобы жить. — Священник вздохнул. — Люди очень мужественны. Диву даешься, откуда они порой черпают силы.
— Мое мужество и силы кончились.
Голос священника ровный, бесстрастный: ни упрека в нем, ни сочувствия.
— Вы обретете их снова. И возблагодарите Бога за то, что Он помог вам.
— Хорошо бы…
— Черные дни скоро минут.
— Хорошо бы…
Может, он прав? Ведь он видит столько судеб. Наверно, и такое с кем-нибудь прежде случалось.
Ее собеседник встал:
— Вам легче?
— Чуть-чуть, — честно ответила она. Бремя действительно стало чуть полегче, словно она переложила часть на плечи священника.