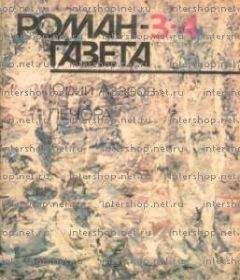Я много лет спустя только понял, что моя ослепленная любовь к детям была разновидностью болезненной любви к самому себе. Впервые, об этом мне сказал Рубинский. Сказал насмешливо, после того как я возмутился его авторитарными методами общения с детьми. Впрочем, я и сейчас не могу понять, были ли его методы авторитарными или же это тоже был какой-то болезненный, загиб. Я развивал тогда идею самоуправления. Мне казалось, что я с детьми достигаю высших форм человеческого единения, высшей справедливости, правды и доверия. Я говорил ученикам:
— Завтра три восьмых класса пишут сочинение. Ни в одном из классов не будет учителя, и никто из ребят не посмеет списать у товарища или же воспользоваться записями, учебником или шпаргалкой.
Я верил детям, как самому себе. Я знал: будет в классах абсолютный порядок. А через два часа мне принесут в учительскую три стопки сочинений, и я доложу детям, что за эти два часа подготовил для них удивительный рассказ о нравственных поисках Толстого и Чехова. Я давал им понять, что моя функция как учителя не в том, чтобы следить за ними, мелко и унизительно допрашивать, выискивать недостатки, расставлять капканы, а в том, чтобы утверждать высшие формы нравственности, для утверждения которых я хотел непременно найти и технологические решения. Если, скажем, Валерий Чернов назначался ответственным за проведение всего дня, то он и должен. был обеспечить порядок на контрольной в своем классе. И я верил ему и говорил об этом и детям, и учителям. И в ответ мне посмеивались и некоторые из ребят, и некоторые из учителей.
— У меня несколько иной метод, — тихо произносил Рубинский, как бы обращаясь к Екатерине Ивановне, И та раскатисто смеялась: — Ну уж и метод…
Новшество Рубинского было таким. Он поставил на стол свой учительский стул, забрался на этот трон и два часа просидел на нем, пока не прозвенел звонок. Странно, когдая увидел Рубинского, сидящего на своем возвышении, я возмутился, а он как ни в чем не бывало слез с возвышения, и его обступили со всех сторон дети: и Валера Чернов, и Света Шафранова, и Юля Шарова, и все другие дети, и никто из них не был возмущен, напротив, все обращались к нему с почтением, и он улыбался, отвечал на вопросы, и была меж ними такая особая доверительная доброжелательность, что я тихонько закрыл двери и удалился.
Однажды я разговорился со Светой Шафрановой. Как-то очень осторожно коснулся Рубинского. Она сказала:
— А он не злой. Смешно, когда он разыгрывает диктатора.
Я продолжал развивать самостоятельности детей, а Рубинский посмеивался надо мной. Помню, я уже добился того, что дети сами находили работу, сами организовывали труд, получали деньги, оформляли сберегательные книжки, покупали необходимый инвентарь для предстоящего похода, уже каждый из ребят побывал и в командной, и в подчиненной роли (принцип сменяемости руководства был для меня одним из главных), а Рубинский все равно посмеивался.
— Это игра, — говорил он. — Никому не нужная игра.
— То, что это игра, — это прекрасно, — отвечал, я ему. — Без игры не может быть детской жизни. И не беда, что ты этого не понимаешь. Страшное в другом. Ты знаешь, какой вред могут принести авторитарные методы, которые насаждаются в школе, и ты же не принимаешь детское самоуправление.
— Не принимаю. Нельзя ставить у власти таких детей, как Чернов или Юра Савков.
— Почему нельзя?
— Потому что они безнравственны.
— От природы, что ли?
— От безнравственного воспитания, — А кого можно?
— Никого.
— А тебя? — язвил я.
— Вот тебя уж точно нельзя, — отвечал он.
— Почему же?
— Потому что ты озабочен только своими притязаниями. Ты наслаждаешься самим собой в общении с детьми…
Я ничего тогда не смог ответить ему. Я действительно наслаждался самим собой. Мне доставляло огромную радость то, что я всецело посвящал себя детям, что они мне дороже всего, а те идеи, какие я пытаюсь с ними утверждать в этой жизни, волновали человечество на протяжении многих веков. Так почему же я не должен наслаждаться своим трудом, своим общением, своими догадками? Я ненавидел Рубинского и все же в чем-то ощущал его правоту. Ощущал, хотя и не принимал ее. Конфликт возник у меня с Рубинским в колхозе. Я руководил тремя восьмыми, а он тремя девятыми классами. И здесь я развивал со своим отрядом самоуправление, а он — авторитарность: за все отвечал сам, сам наказывал и поощрял, раздавал инвентарь и принимал работу. Все это у меня совершали ответственные, и я радовался тому, как они разрешали возникающие противоречия.
Но однажды случилась беда. Мои восьмиклассники во главе с Савковым и Черновым оказались ночью на кладбище (у них с девчонками было какое-то пари), они выдернули несколько крестов и направились в деревню, назвав свое шествие восьмым крестовым походом. В ходе расследования этого чрезвычайного происшествия выяснилось, что Чернов с крестом в руках ночью постучал в один из домов, старуха выглянула в окно и, увидев крест, говорят, упала в обморок, а Чернов хохотал так, что упал на землю, лег на спину и задрал кверху ноги: так ему было весело.
И вот теперь шло разбирательство.
Чернов стоял на середине вместе с Савковым.
— Вы хоть отдаете себе отчет в содеянном правонарушении? — спрашивал Рубинский, взяв на себя миссию главного судьи.
— А что мы сделали? Ну, пошутили. Ну, виноваты, — вот такие были ответы.
Я прервал разбирательство, потребовав, чтобы Совет коллектива, который на общем собрании был назван главным органом, разобрал происшествие и вынес соответствующее решение. Меня поддержали и Чаркин, и завуч Фаранджева.
— Они не случайно тебя поддержали, — сказал мне Рубинский, когда мы остались одни.
— Почему не случайно?
— Да потому, что они твоими руками не сплотят, а разъединят ребят.
— Почему разъединят?
— Да потому, что мы фактически натравим одних учеников на других. Где это слыхано, чтобы товарищ закладывал своего товарища! — У Макаренко тоже закладывали друг друга! Рубинский махнул рукой:
— Там совсем другое. Там как семья.
— А почему здесь нельзя, как в семье?
— Нельзя потому, что здесь не семья.
— А что?
— Здесь разные слои. Разные люди. Они никогда не объединятся. Они всегда будут жить по-разному.
— Кто они?
— Тот же Надбавцев и тот же Чернов.
— Неправда!
Конечно же я понимал и осознавал правоту Рубинского. Жизненную правоту. Но во мне была и другая, пусть неземная, пусть идеальная, пусть фантастическая, донкихотская или еще какая там, правота. Я не желал ждать. Я весь был охвачен нетерпением. Сейчас! Немедленно! Сию минуту! В одно мгновение личность может стать благородной, в один миг может переиначиться человек! Я верил в это! Верил в то, что Чернов завтра станет самым лучшим! Самым честным! Самым трудолюбивым! И не только он. Все! На чем строилась моя вера, я не задумывался. Я пришел к детям на расширенное заседание Совета коллектива и стал говорить. Я говорил долго. Все, что накипело во мне, весь мой жар, всю мою страсть, всю мою уверенность в том, что каждый из них может стать прекрасным человеком, — все это я обрушил на ребят. Если бы за стеной помещения, где шло наше собрание, шла война, то все мои дети ринулись бы на поле брани с готовностью отдать жизнь за те идеалы, какие были провозглашены мною. (Я видел скептический взгляд Рубинского, Впрочем, в тот вечер он сдался. Потом он сказал мне: «Ты был прекрасен».) Но, к сожалению, за стеной нашего собрания не было поля брани и реализовать детскую энергию по-настоящему было негде. Точнее, в одно мгновение нельзя было ее реализовать. Я понимал это и потому выдвинул ряд требований: выполнять три нормы, с разрешения сельского совета привести в должный порядок могилы на кладбище, оказать практическую и посильную помощь семьям погибших, пенсионерам и инвалидам войны. Мы обязались оставить добрую память о себе в этом селе. Но это еще не все. Мы решили: должны приехать домой совсем другими людьми: по-новому жить и работать, доставлять радость своим родителям, учителям, товарищам; у каждого будет свой личный план саморазвития, но самовоспитание каждого, так условились, будет контролироваться коллективом.
— Любопытно все выходит! — это Рубинский сделал вывод. — Вместо того, чтобы наказать нарушителей, их сделали героями.
— Ну и что?
— А то, что безнаказанность может привести к ужасным последствиям.
— Я тоже за наказание, — ответил я. — Но наказание ведь состоялось. Общественное воздействие было. Ребята осознали вину.
— Ты уверен?
Я не знал еще Чернова. Я не знал, что стоит за сложным миром отношений моих мальчиков и девочек. Но я все равно настаивал: уверен и еще раз уверен. Я был максималистом, и это нравилось детям. Я не хотел ждать. И они не хотели ждать. Моя торопливость была опасной, поскольку исключала необходимую стадию совестливых переживаний. Я не давал им времени поразмыслить над своими проступками. Впрочем, может быть, это было и не так. Кто знает, о чем думают дети, когда остаются наедине с собой, когда просыпаются и идут в школу, когда беседуют с друзьями о сокровенном.