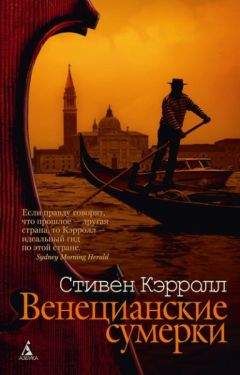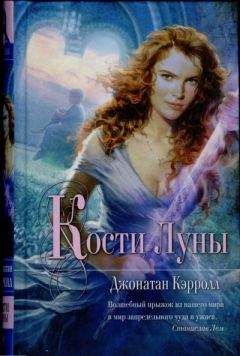Она заговорила срывающимся голосом, удерживая подступавшие слезы.
— Я училась на его музыке, слушала ее, впитывала, жила ею, — выпалила она, боясь сорваться, затем глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. — Она помогла мне в очень трудные времена, когда я была моложе, совсем девчонкой. За годы до нашей встречи Фортуни подарил мне бесконечную радость своей игрой. А теперь, — сказала она, останавливаясь у своей двери и глядя на зеленую гладь канала перед собой, — мне выпал случай хоть чем-то за эту радость отплатить.
Марко слушал, не глядя на нее. Люси прислонилась к двери и добавила спокойно:
— Остерегаться мне нечего. У него такой большой дом, и там, конечно, очень одиноко. Просто Фортуни иногда нужно, чтобы его кто-то сопровождал.
Марко постоял возле двери, пока она поворачивала ключ в замке. Она знала, что он, как всегда, ждет приглашения войти, но предложила встретиться в другой раз. Она сказалась уставшей, но на самом деле злилась на этот город с его слухами и сплетнями — город, оказавшийся в конечном счете маленьким провинциальным городком.
Часа в четыре утра Люси сидела за столом в спальне и писала отцу, рассказывая о событиях последних недель и еще больше подчеркивая доброту синьора Фортуни. Спала она чутко и часто пробуждалась, потревоженная ночными шумами или плохим сном. Из-за снов особенно. Ее мог разбудить похожий на пощечину хлопок противомоскитной двери, и она снова видела, как убегает из дома неблагодарная дочь, а Молли остается сидеть за кухонным столом, закрыв лицо ладонями, в ожидании, пока спадет жара и пройдет головная боль. Или ей слышалось, как отдаются эхом в темном и пустом доме тонкие звуки печальнейшей музыки на свете — приношение Молли, навсегда запоздавшее, безнадежное, обращенное в непроницаемую тьму бесконечности.
Вернувшись домой, она скинула красное платье. Откуда им знать о том, что началось давным-давно? Нет, она пойдет до конца. Нечто (печальнейшая музыка на свете, сладостнейшая боль, самый чарующий из мифов — загадка, не разгаданная и поныне) проникло в нее давным-давно и не отпустит, пока история не придет к концу. Откуда им знать и какими словами им об этом поведать? Был лишь один человек в мире, с кем она могла поделиться, не сомневаясь, что он поверит и поймет. И еще она чувствовала, что, как только она расскажет, и будет понята, и поймет сама («Ага, вот что это такое, теперь мне ясно. Вот что это было»), — волшебство исчезнет. Подвергнув это рассудочному анализу, отдалившись, чтобы понять саму себя, она это потеряет. И увидит, что так или иначе волшебство было обречено погибнуть. Но сначала надо прожить эту историю, довести ее до конца. Такова цена снов и мечты. Ибо Марко прав: эти вещи имеют цену, но не ту, что он воображал.
Их уроки продолжались, но во время занятий Фортуни представал иным, более далеким, совсем не тем человеком, с которым Люси ходила в оперу, театр и в другие места. Это был «маэстро Фортуни». Фортуни официальный. Даже чуточку высокомерный. Совсем как та фигура на вершине горы, озирающая то, что творится внизу. Разумеется, он ничего такого не говорил, но держался именно так. Такова, повторял он, природа художника. Он ходит по обычным улицам, бывает там и сям, но все время остается незатронутым. Он улыбается, кивает, живет как все, однако глубинная основа его существа самодостаточна и безразлична к окружению. Он был художник, отстраненный от внешнего мира, — так катализатор ускоряет химические реакции, но не участвует в них. И пусть безумный, свихнувшийся мир вытворяет что угодно — художника ничто не касается.
Так понимала Люси натуру Фортуни, который на уроках спокойно сидел и слушал ее игру. Все это было частью того, что привело ее сюда: сладчайшей боли, самого чарующего из мифов. В подобных обстоятельствах он изъяснялся иной раз с царственным высокомерием: «Это либо понимаешь, либо нет» — и прочее. Поначалу суждения столь решительные и произнесенные столь авторитетным тоном не вызывали у нее сомнения. Но позже Люси стало казаться, что в этой надменной манере говорить и во всей этой позе есть нечто сомнительное, едва ли не смешное.
Как-то, сидя за роялем, она мимоходом обронила фразу об исполнителе, которого недавно слышала. Люси предположила, что Фортуни его знает, они ведь почти ровесники, но для нее он был самым недавним открытием. Широкой известностью он не пользовался, но, по мнению Люси, представлял интерес. Фортуни слушал ее с умеренным любопытством, опираясь локтями о подлокотники небольшого кресла, в котором он обычно сидел во время уроков, сведенные вместе пальцы рук были подняты к подбородку. Сама безмятежность. Сама отрешенность.
Но в тот миг, когда Люси упомянула фамилию музыканта, Фортуни сделался неузнаваем. Он переменил обычную позу, руки уронил на колени, и в тоне его зазвучало явное недовольство, которое он попытался выдать за пренебрежение и скуку.
— Он был дурак.
— Как так?
— Как так? — От этого вопроса по гостиной прокатилось эхо. Фортуни вскинул свой чисто выбритый подбородок. — Разве это не очевидно?
Люси на мгновение притихла, давая Фортуни время успокоиться, и лишь затем ответила:
— Я всего лишь сказала, что у него интересная манера…
— В этом человеке никогда не было ничего от истинного художника. Он никогда не понимал, что такое творчество, сердце у него ни разу не дрогнуло, до того самого дня, когда он рухнул на пол и испустил дух в каком-то калифорнийском супермаркете. — Глядя в окно, он добавил: — Пусть продолжает жить в своих записях — их часто проигрывают в таких местах как музыкальный фон.
Поначалу Люси была слишком огорошена, чтобы ответить.
— Никогда не слушайте посредственностей, — проговорил наконец Фортуни.
— Фортуни…
— Вам понятно? — спросил он, вернув себе спокойствие.
— Но, Фортуни…
— Вы должны уяснить себе это, — оборвал он ее.
— Да. Но что вы имели в виду под «посредственностью»?
— Не стоит и объяснять. Это либо понимаешь, либо нет.
— Что понимаешь?
— Подлинное искусство, моя милая Люси. Подлинное искусство. — Он словно бы обращался к подающей надежды малолетке. — Если не умеешь отличать, то ничего и не создашь. Никогда не слушайте посредственностей!
И он отвернулся к окну, показывая, что ему нечего добавить. Люси поняла, что это очередное испытание. Но на что? На преданность? Какая чушь! Он снова провоцировал ее, а ей не хотелось, чтобы ее провоцировали.
— Фортуни, — произнесла она с расстановкой, пока он медленно поворачивался в ее сторону, — я буду слушать кого захочу. И вы мне не указ. Не имеете права. И мне не нужны советчики, которые будут указывать, что мне делать, а что нет.
Он окинул ее взглядом, словно обдумывая ситуацию, потом резко встал, подошел к роялю и грохнул крышкой. Люси отпрыгнула.
— Тогда вы тоже дура. Дурочка с куриными мозгами, а у меня нет времени на дурочек.
Это было неожиданно и — ее потрясла сама мысль — граничило с неистовством. Те самые руки, что порождали печальнейшие из мелодий, — могут ли они причинять физическую боль? На мгновение она встревожилась, но, прежде чем смолк нестройный гул рояля, Фортуни уже направился к portego. По пути он кинул вместо прощания:
— Урок окончен.
Люси, еще не успевшая прийти в себя, глядела ему вслед. У двери он помедлил и оглянулся:
— Можете больше не приходить. Наши занятия закончились.
— Отлично!
«Последнее слово всегда за Мадам», и теперь Люси не собиралась менять привычки.
Фортуни удалился. Люси посидела еще минутку, затем помотала головой и медленно нагнулась за сумкой. Потом встала и вышла во двор, напоследок хлопнув за собой большой старой дверью.
Тем вечером у себя в кабинете Фортуни думал о случившемся, о том, как Люси случайно упомянула этого Блюма. Блюм — молодой виолончелист, скончавшийся на полу супермаркета в Калифорнии и продолжавший жить в своей музычке. Или… что? Странно, однако Фортуни не думал о нем годами с тех пор, как они были студентами. Да и о чем думать? Они никогда не были друзьями, скорее уж дружелюбными соперниками. Но они вместе учились в Риме, и, поскольку они были лучшими в выпуске, их неизбежно сравнивали.
Потом Блюм уехал в Америку и стал записывать эту фоновую музычку. По крайней мере, Фортуни считал это музычкой. Но за последние годы появился ряд статей о Блюме, в некоторых выражались пылкие восторги. Он был художником, опередившим свое время, говорилось в них, Сати[15] виолончели, чье время наконец пришло. Конечно, все это была чушь собачья, и Фортуни выкинул статьи, даже не озаботившись дочитать их до конца. От артиста непременно требуется умереть молодым, сказал он как-то Карле с глубоким сарказмом. Но наедине с собой он задавался вопросом: где же обзоры творчества Фортуни? Нигде. Никто, с тех пор как он прекратил концертировать, не взялся его изучать, а за пределами Венеции, как он сам полагал, его слава вообще канула в Лету.