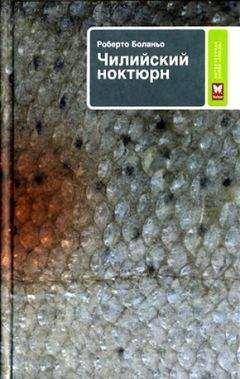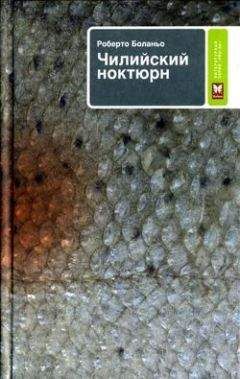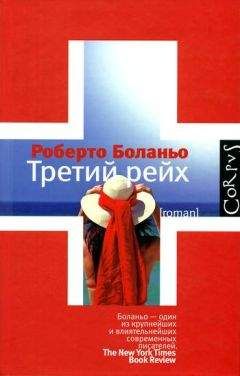«В том, что связано с поэзией», – ответил он. Видер был поэтом, я был поэтом, сам он не был поэтом, следовательно, чтобы найти поэта, необходима помощь другого поэта.
Я сказал, что для меня Вид ер был вовсе не поэтом, а преступником. «Хорошо, хорошо, – отозвался Ромеро, – не будем становиться в позу. Возможно, для Видера или кого-то другого вы не поэт, или плохой поэт, а сам он – да, поэт, и хороший. Через какое стекло посмотреть, как говорил Лопе де Вега. Согласны?» – «Двести тысяч наличными, и прямо сейчас?» – уточнил я. «Двести тысяч песет, как одна копеечка, – согласился он энергично, – но помните, что с этой минуты вы работаете на меня, а мне нужен результат». – «А сколько платят вам?» – «Достаточно, – ответил он, – у того, кто меня нанял, много денег».
На следующий день он пришел ко мне и принес конверт с пятьюдесятью тысячами песет и чемодан, набитый литературными журналами. «Остальное я заплачу, как только мне переведут деньги», – сказал он. Я спросил, почему он думает, что Карлос Видер жив. Ромеро улыбнулся (когда он улыбался, на ум приходила мордочка ласки или полевой мыши) и сказал, что это его клиент считает, что Видер жив. «А что заставляет вас думать, что он живет в Европе, а не в Америке или Австралии?» – «Я проанализировал информацию о нем», – ответил он. Потом он пригласил меня пообедать в ресторанчик на улице Тальерс, где я жил (сам он поселился в скромном приличном пансионе на улице Оспиталь, в нескольких шагах от моего дома). Разговор крутился вокруг лет, проведенных им в Чили, вокруг страны, которую мы оба не забывали, и вокруг чилийской полиции, которую Ромеро (к моему изумлению) считал одной из лучших в мире. «Вы фанатик и ура-патриот», – сказал я ему за десертом. «Уверяю вас, нет, – отозвался он, – когда я служил в Бригаде, за нами не было ни одного нераскрытого убийства. Козлы, занимавшиеся расследованиями, были образованнейшими людьми, за спиной у каждого какой-нибудь гуманитарный факультет, причем с хорошими результатами, потом еще три года Академии с отличными профессорами. Помнится, криминалист Гонсалес Савала, доктор Гонсалес Савала, мир его праху, говаривал, что две лучшие в мире полиции, по крайней мере, что касается расследования убийств, – это английская и чилийская». Я попросил его не смешить меня.
Мы вышли в четыре часа, плотно закусив и выпив две бутылки вина. «Испанское вино, да еще за беседой, – сказал Ромеро, – куда лучше французского». Я спросил, что он имеет против французов. Он помрачнел и сказал, что просто он хочет уехать, ему уже слишком много лет.
Мы выпили кофе в баре «Сентрико», беседуя об «Отверженных». По мнению Ромеро, Жан Вальжан, превратившийся потом в Мадлен, а дальше в Фошлевана, был заурядным персонажем, какого легко встретить в пестрых и беспорядочных латиноамериканских городах. Вот Жавер, напротив, казался ему исключительной личностью. «Этот человек, – сказал он, – как сеанс психоанализа». Не составляло особого труда сообразить, что сам Ромеро никогда не был на приеме у психоаналитика, хотя в его представлении это было безумно престижно. Жавер, полицейский из романа Виктора Гюго, которому Ромеро сочувствовал и которым восхищался, был для него чем-то роскошным, шикарным, «удобством, которым чрезвычайно редко можно позволить себе насладиться». Я спросил, видел ли он очень старый французский фильм. «Нет, – ответил он, – я знаю, что в Лондоне дают музыкальный спектакль, но я и его не видел. Наверное, это что-то вроде «Галереи цветов». Как я уже говорил, он совершенно позабыл роман, но помнил, что Жавер покончил жизнь самоубийством. У меня были сомнения. Может быть, в фильме этого не показывают. (У меня в памяти возникают лишь два образа: баррикады 1832 года со снующими студентами и уличными мальчишками и фигура только что спасенного Вальжаном Жавера, стоящего около сточной канавы, с устремленным за горизонт взглядом. Все это сопровождается действительно впечатляющим, похожим на грохот водопада шумом воды, бегущей в Сену. Хотя, скорее всего, я что-то путаю или смешиваю в кучу разные фильмы.) «Сегодня, – сказал Ромеро, смакуя последние капли ликера, – по крайней мере в американских фильмах, полицейские только разводятся, а Жавер кончает с собой. Чувствуете разницу?»
Потом он поднялся ко мне на пятый этаж, открыл чемодан и выложил на стол журналы. «Читайте не торопясь, а я пока посмотрю город. Какие музеи вы мне посоветуете?» Помнится, я путано объяснил ему, как добраться до Музея Пикассо, а оттуда до собора Святого Семейства,[46] и Ромеро ушел.
Я увидел его только через три дня.
Все принесенные им журналы были европейскими. Испанскими, французскими, португальскими, итальянскими, английскими, швейцарскими, немецкими. Был даже один польский, два румынских и один российский. В основном это были малотиражные издания. За исключением немногих французских, немецких и итальянских, вполне профессиональных, за которыми чувствовалась солидная финансовая поддержка, большинство было кое-как сделано на ксероксе, а один (румынский) даже на гектографе. Продукция резала глаза: скверное качество, дешевая бумага, никудышный дизайн, – короче, дерьмовая литература. Я пролистал их все. По словам Ромеро, в одном из них должен был объявиться Видер, разумеется, под другим именем. Это не были литературные журналы в полном смысле слова: четыре из них издавали группировки скинхедов; два были нерегулярно появлявшимися органами футбольных болельщиков; по меньшей мере семь отводили больше половины своих страниц научной фантастике; три принадлежали игровым клубам, специализирующимся на военных играх, или wargames; четыре занимались оккультными науками (два итальянских и два французских), причем один из журналов (итальянский) был откровенно дьяволопоклонническим; по крайней мере пятнадцать изданий носили открыто нацистский характер; штук шесть можно было отнести к псевдоисторическим «ревизионистским» (три французских, два итальянских и один франкоязычный швейцарский); один, русский, представлял собой беспорядочную смесь всего перечисленного, во всяком случае, я смог сделать такой вывод благодаря карикатурам (удивительно многочисленным, как будто все российские потенциальные читатели этого журнала оказались неграмотными, но мне это было на руку – ведь я не знал русского). Почти все журналы грешили расизмом и антисемитизмом.
На второй день я стал по-настоящему втягиваться в чтение. Я жил один, денег не было, здоровье оставляло желать лучшего, меня давным-давно нигде не публиковали, а последнее время я и не писал. Мой удел представлялся мне жалким. Думаю, я понемногу привыкал жалеть самого себя. Журналы Ромеро, выложенные на стол все разом (я решил есть на кухне стоя, чтобы не убирать их) и рассортированные на стопочки в зависимости от национальной принадлежности, даты выхода в свет, политической ориентации и литературного жанра, подействовали на меня, как противоядие. На второй день моих чтений я почувствовал себя неважно, но быстро сообразил, что мое самочувствие обусловлено плохим питанием и недосыпом, и решил выйти на улицу, купить себе бутерброд с сыром, а потом поспать. Проснувшись через шесть часов, я был свеж и бодр, ощущал себя отдохнувшим и готовым продолжать читать и перечитывать (или угадывать, в зависимости от языка). Я все больше увлекался историей Видера, которая была историей чего-то неуловимого, я и сам еще не знал, чего именно. Как-то ночью мне даже приснился сон на эту тему. Мне снилось, что я плыву на огромном деревянном корабле, возможно галеоне, и мы пересекаем Великий океан. Я сидел на корме и сочинял поэму или газетную статью, посматривая на плещущиеся вокруг волны. Внезапно какой-то старик закричал: «Торнадо! Торнадо!» Кричавший был не с нашего галеона – он то ли проплывал на яхте, то ли стоял на волнорезе. Точь-в-точь сцена из «Ребенка Розмари» Романа Поланского. В этот момент галеон начал тонуть, и все мы, выжившие, превратились в терпящих кораблекрушение. Я увидел в море Карлоса Видера, он плыл, уцепившись за бочку с водкой. Сам я держался за полусгнившее бревно. Волны разносили нас все дальше друг от друга, а я внезапно понял, что мы с Видером плыли на одном и том же корабле, но он делал все, чтобы потопить галеон, а я не сумел сделать так, чтобы спасти его (или делал, но недостаточно). В общем, когда через три дня вернулся Ромеро, я встретил его почти как родного.
Он так и не посмотрел ни Музей Пикассо, ни собор Святого Семейства, зато зашел в музей при Камп Ноу[47] и в новый зоопарк. «В жизни не видел так близко акулу, – рассказывал он, – клянусь вам. это впечатляет». Когда я поинтересовался его мнением насчет Камп Ноу, он сказал, что всегда был убежден, что это лучший в Европе стадион. Жаль, Барселона проиграла в прошлом году «Пари-Сен-Жермену». «Только не говорите, Ромеро, что вы culé[48]». Он не знал такого слова. Я объяснил, и словечко показалось ему забавным. Какую-то минуту он словно отсутствовал. «Я непостоянный, переменчивый culé, – сказал он наконец. – В Европе мне нравится «Барса», но мое сердце отдано «Коло-Коло». Ну что тут поделаешь», – добавил он гордо и печально.