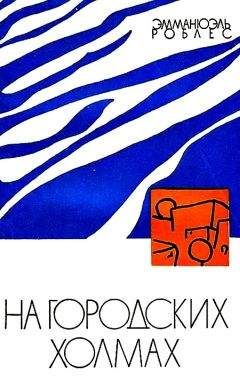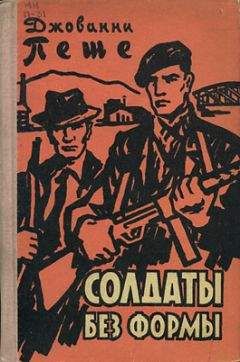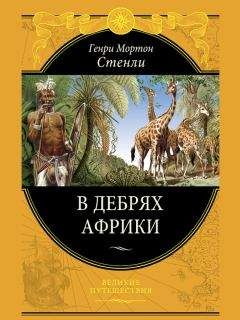— Ты что думаешь, я дурак? Я сказал ей, что уезжаю в Кабиллю.
Он одобрительно кивнул головой. Ну, а я — я думал о полицейских, наверняка поджидавших меня в ресторане. О Монике, которая тоже ждала меня… Что я здесь делаю? У меня было такое ощущение, будто меня жгли тысячью раскаленных игл. Уйти!.. Меня обуяло желание встать и уйти, оставить всех здесь, в этой комнате…
Но в эту минуту я услышал, как внизу, под нашим окном, остановилась машина. Услышал не один я, услышали все.
— Это Роже, — сказала Луиза.
Молодая женщина засуетилась:
— Не опоздал! Куда же я ткнула сандвичи?..
Она отыскала пакет с едой, сунула его нам и взволнованным голосом пожелала удачи. Фернандес был уже на лестничной площадке и, торопил нас.
Машина, «форд-8», стояла у тротуара с зажженными фарами.
— Это ты, Роже?
— Я.
Роже был молодой парень из гаража Моретти. Я пожал ему руку и первым забрался в машину. Фурнье устроился рядом со мной. Фернандес сел впереди, рядом с водителем.
Пустынные улицы…
Мы помчались к Мэзон-карре, чтобы сесть там на оранский экспресс. Передо мной мягким фосфоресцирующим светом горели освещенные изнутри приборы. Навязчивая мысль о револьвере не покидала меня. В ярком свете фар искрами металась ночная мошкара. В этот час ни Моника, ни полицейские уже не ждут меня. Хорошенькую шутку сыграл я с ними! А были ли это и в самом деле полицейские? Передо мной всплывает лицо Альмаро, выслушивающего их короткий рапорт: «Смайл исчез! Бежал. Куда — неизвестно!..» Только бы Фернандес не забыл о револьвере!
Навстречу нам неслись темные поля, над которыми переливались жемчугом звезды. Его нужно пристукнуть! В один прекрасный день так и будет! Моника сейчас плачет. А может, и не плачет. Да и из-за чего ей плакать? Ведь через неделю я вернусь. Да и настолько ли она любит меня, чтобы плакать?
— Ну что, берешь?
Фернандес протягивал мне какую-то вещь.
Я и сейчас еще помню, как меня бросило тогда вперед. Хриплый стон вырвался у меня из груди. К счастью, его заглушил рокот мотора. В руках я ощутил теплый металл, нащупал насечку рукоятки револьвера. В эту минуту я был бесконечно благодарен Фернандесу. Мне захотелось сказать ему, что он может полностью рассчитывать на меня. Я готов на все! Но я не шелохнулся и, забившись в свой угол, смотрел в ночь широко раскрытыми глазами.
Машина мчалась вперед. Фурнье, казалось, спит, откинув голову на подушку сиденья; углом выпирал его кадык. Свет фонарей, мимо которых мы проносились, скользил по его лицу.
— Ты хоть сумеешь им воспользоваться? — спросил Фернандес.
— Ну конечно…
Собственный голос показался мне каким-то мягким.
— Шесть патронов. Не забудь…
Нет, я не забуду. Никогда ничего не забуду! Я подумал: Через неделю — Альмаро… Но теперь я не испытал никакого нетерпения. Не испытал ничего — только огромное счастье, счастье и успокоение. И они были так под стать этой умиротворенной ночи, мерцающей мириадами звезд!
IV
Лица обоих — бледное Фернандеса, гладкое и розовое Роже — растворились в ночи вместе с клубами пара, выдыхаемого паровозом, и вот поезд уже мчится вперед, скашивая лезвиями света траву и километровые столбы на насыпи. Вокзал, его белые круглые часы, охранники в касках, вокзальные уборные: «W. С. — для мужчин» — все это вдруг исчезло, словно декорация, опрокинулось, незаметно скрылось, словно провалилось. И теперь ночь, только ночь окружала поезд, закупорив все окна. Блида — двадцать километров!.. К часу мы должны быть в Орлеансвиле. В эти минуты я никак не мог подавить странного отчаяния, разлившегося у меня в груди. Как необдуманно я поступил: я не должен был покидать Алжир! Я не должен!.. С каждым поворотом колес усиливалось во мне это горькое чувство.
Фурнье, скрестив руки на груди, дремал, сидя напротив меня. Я недружелюбно покосился на него. В соседнем купе кто-то монотонно пел. Прерывистый стук колес то и дело перебивал певца. При свете ночника лица пассажиров были мертвенно-бледного оттенка. Да, я не должен был уезжать! При переходе границы меня могут схватить. Машинально я нащупал револьвер в кармане.
Альмаро поднимет руки. Я скажу ему… Нет! Ничего не скажу! Я разряжу револьвер прямо ему в живот. Все шесть патронов…
Другие пассажиры тоже дремали: три торговца из Мозамбика, толстые и сальные, пожилая респектабельного вида дама в черном, два европейца: один сухощавый и морщинистый, цепочка от часов распущена по жилету; другой помоложе, очень волосатый и до того выбритый, что на скулах проступили фиолетовые, будто нарисованные пятна. Я закрыл глаза. Вид этих людей раздражал меня. Добродушные, слишком уж миролюбивые люди. Часть огромной, послушной, бестолковой, впечатлительной толпы, которая единодушно разом возмутится, прочтя в газетах: Ужасное преступление. Один из наших самых уважаемых соотечественников убит… Ну и ну. Альмаро — уважаемый соотечественник! Грохот поезда отдавался у меня в голове. Я попытался заснуть. Следующая ночь будет нелегкой. В глазах зигзагами плясали огненные хвосты. Певец замолк. Я услышал смех, восклицания.
Альмаро встает… Надо сказать ему… Нет, мне нечего ему сказать… Нужно стрелять. Я стреляю… Из дула револьвера медленно тянутся длинные извилистые полосы огня… Вот они настигают Альмаро, и тот краснеет, начинает таять… таять…
В Сент-Барб-дю-Тлела нам нужно было пересесть из оранского экспресса в поезд «Оран — Уджда». Двадцатиминутная стоянка. Маленький вокзальчик, заполоненный солнцем и мухами, вышел из своего оцепенения, как только к нему подкатил наш поезд. Он сразу же наполнился оживленной суетой и гомоном ожидавших пересадки пассажиров, которые ринулись к буфету.
Мы с Фурнье остались на перроне.
Фурнье казался совершенно спокойным. Он моргал за стеклами очков: яркий утренний свет бил в лицо. Жара была еще терпимой, но уже палила желтую землю и волнами струилась между оливковыми деревьями. Легкий ветерок скользил по листве высоких эвкалиптов, которые слегка покачивались, будто парусники в море.
Я подумал, что, если полицейских предупредили, они могли бы легко сцапать здесь моего спутника. Мысль об этом встревожила меня.
В эту минуту Фурнье повернулся ко мне вполоборота и, улыбаясь, прошептал:
— Хорошо быть свободным, когда такое солнце!
Знаю. Шаблонная фраза. Но она откликнулась на мое собственное беспокойство, и это совпадение так поразило меня, словно это было предзнаменование или предостережение.
Если Фурнье схватят, меня, конечно, тоже арестуют, стоит им только догадаться, что я его сопровождаю. Инстинктивно я огляделся вокруг. Пассажиры с криками осаждали прилавок, пытаясь заполучить кофе или лимонад. Ничего подозрительного. Но во мне не унималось чувство тревоги.
Наконец подошел экспресс на Уджду.
Нам повезло, и мы нашли пустое купе. Я сел рядом с Фурнье.
Поезд тронулся, начал описывать дугу. Солнце светило теперь с другой стороны. Тень, набежавшая на окно, закрыла лицо моего спутника, отчего оно вдруг сделалось голубым. Глаза его за стеклами очков уже не блестели. Казалось, он весь ушел в созерцание голой местности, по которой мчался поезд. У Фурнье был безразличный, задумчивый вид. Я подумал о немецком офицере. Как ему удалось убить его этими женскими руками? Черная цепочка кипарисов уткнула в небо копья своих верхушек. Словно втулки огромного колеса, завертелись ряды виноградных лоз. Может быть, в глубине души я согласился сопровождать его только ради того, чтобы узнать, что он за человек и как, прежде чем убить врага, он замкнулся в своей ненависти.
В это мгновенье Фурнье, наверно, почувствовал мой взгляд. Он повернулся ко мне и улыбнулся. И тут же я спросил его с жадным любопытством, которое мне едва удалось скрыть:
— Расскажи, как это у тебя в Марселе получилось?
Кажется, мой вопрос не удивил его. Он поднял глаза к потолку, как делают люди, когда ищут, с чего бы начать рассказ.
— Мне пришлось ждать целую неделю. Труднее всего было ждать, представлять себе его, скажем, утром, когда он бреется. Казалось бы, это такие незначительные, такие будничные события человеческой жизни, и, однако же, иногда они…
Тут он сделал неопределенный жест, и я не знал, как его понять. «Они заставляют сомневаться? Колебаться?..» Ничто в нем не говорило, что он удовлетворен своей победой.
— Ты его ненавидел?
— Как и всех нацистов. Века ушли на то, чтобы превратить человека из просто высокоорганизованного животного в нечто более совершенное, — в существо, обладающее неотъемлемым достоинством. А эти люди!..
Опять неопределенный жест. Но я настаивал:
— Я хотел спросить тебя: ты лично знал этого офицера?
Он воскликнул: