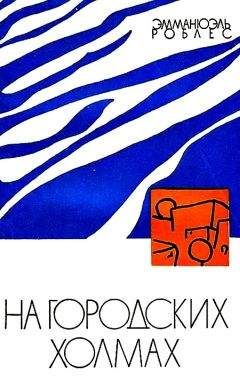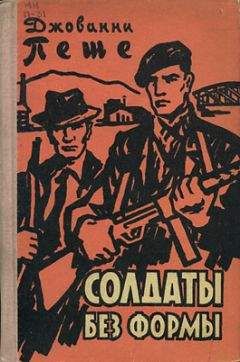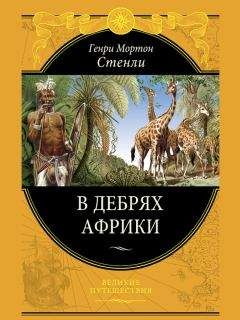Мне открыла Луиза, жена Фернандеса — маленькая, кругленькая брюнетка с улыбкой во весь рот.
— А, это вы, Смайл! — воскликнула она.
— Я пришел слишком рано?
— Ну что вы…
В ту же секунду из коридора я увидел Фернандеса. Он сидел за столом с худощавым светловолосым человеком в очках.
Не знаю почему, но я вдруг почувствовал себя совершенно свободным, оторванным от своего недавнего прошлого… Свободным и беззаботным… Человек в очках — это, видимо, Фурнье, тот самый, что убил немецкого офицера. Никогда еще, думается, и ни к кому не испытывал я такого жадного любопытства. Никогда еще незнакомый человек не притягивал меня к себе с такой силой, как этот парень.
Когда я вошел в комнату, Фернандес шумно и дружески поздоровался со мной. Потом он представил меня Фурнье, и я прочел в глазах француза то же живое любопытство, что и у меня.
— Ты ужинал? — спросил Фернандес.
Не глядя на него, я ответил утвердительно.
Фурнье снова принялся за еду. На нем был темно-серый костюм и распахнутая на груди рубашка.
Я чувствовал себя немного неловко и не знал, чему приписать свое смущение.
Из кухни вернулась Луиза с тарелками в руках. Она смеялась. (Вечно она смеялась!) Я спросил у нее о малышке. В эту минуту я почувствовал, как в меня впиваются светлые глаза Фурнье. Луиза ответила, что сейчас девочка спит, что последние дни у нее болел животик и что она «хорошеет» не по дням, а по часам. Перетерев тарелки, Луиза поставила их на стол через голову мужа. Ее голые руки, казалось, мелькали повсюду, словно белые крылья. Я угадывал под корсажем ее большую, налившуюся грудь кормящей матери и подумал о Монике, о том, как ее заливало молоко после смерти сына. В этот час Моника, вероятно, уже начинает волноваться, поджидая меня.
А Луиза не замолкала. Вот она спросила у Фурнье, так же ли трудно во Франции с питанием…
Я посмотрел на Фурнье. У него длинное, худое лицо. Каким-то тусклым голосом он застенчиво ответил Луизе, что с продовольствием во Франции плоховато: все забирают немцы. Ему, наверно, было лет двадцать пять — двадцать восемь. Кисти рук у него были тонкие, пальцы — сухие, распухшие в суставах. Он носил обручальное кольцо.
В резком свете лампы на буфете блестели разные вещицы. Свет этот, казалось, сдирает кожу с лица Фурнье, обнажает его скрытую глубокую печаль. Я спросил себя, как мог такой парень совсем недавно убить человека. «Он его попросту задушил», — сказал мне как-то Фернандес. Я снова взглянул на эти тонкие бледные руки, покрытые рыжеватым пушком.
Узнав о подвиге Фурнье, я представлял его себе совсем иным. Я не ожидал увидеть хрупкого интеллигента с усталым взглядом. С досадой я подумал о том, что из-за него мне придется идти на большой риск, и снова пожалел, что ввязался в эту историю.
— Ты можешь положиться на Смайла, — сказал вдруг Фернандес; обращаясь к Фурнье. — Он хорошо знает дорогу, и у него крепкие нервы…
Я малость сконфузился. А тут еще Фурнье повернулся ко мне и улыбнулся.
— Вам часто приходилось переходить…
— Черт побери, вы можете быть на «ты»! — перебил его Фернандес. — Мы все здесь товарищи.
Фурнье спросил меня все с той же усталой улыбкой:
— Вы не против?
Я сухо ответил:
— Нет.
Он снова спросил меня спокойно и дружески:
— Так ты, вероятно, часто проделывал этот путь?
— Часто? Да нет. Всего три раза.
Казалось, он удовлетворился моим ответом и принялся машинально вертеть правой рукой обручальное кольцо на пальце.
— А действительно так зорко охраняют, как об этом говорят?
Я ответил ему, что там шляются таможенные патрули, жандармы и полным-полно шпиков, но что, соблюдая некоторую осторожность, можно перебраться в Марокко без особых затруднений.
— Вот и прекрасно, вот и прекрасно… — мягко отозвался Фурнье и налил себе стакан вина.
Я тут же пожалел, что успокоил его. Я подумал, что, напротив, следовало бы преувеличить опасность и посмотреть, какое выражение появится у него на лице.
Я никак не мог воспротивиться этому искушению и добавил:
— Но если мы попадем в лапы пограничникам, нам не поздоровится…
И едва я произнес эти слова, как тотчас же понял, чем грозила ему подобная случайность. Но спохватился я слишком поздно. Слова были сказаны, и я испытал то нелепое, раздражающее чувство беспомощности, которое появляется от сознания невозможности вернуть свои слова обратно.
Фурнье внимательно посмотрел на меня. Боже мой, что он думает?..
— Мне не хотелось бы втягивать тебя в опасное дело… — отозвался он наконец.
Фернандес, сидевший с другой стороны стола, буравил нас взглядом.
Я почувствовал себя уязвленным и тихо возразил с напускным безразличием:
— Мне-то все равно.
Однако Фурнье промолчал, в глазах его застыла какая-то странная усталость.
Фернандес решил разрядить атмосферу и весело воскликнул:
— Ты можешь положиться на Смайла! Всего несколько дней назад он подрался с этими гадами из-за афиш Тодта. Смайл — надежный парень! Вот посмотри, у него еще остались следы на физиономии…
И, откинувшись назад, он расхохотался.
Его неловкая похвала привела меня в большое замешательство. Я отвел глаза в сторону. Однако я успел заметить, что лицо Фурнье стало очень строгим, и разозлился на Фернандеса. Ну что он вмешивается? Слова его походили на разглагольствования мамаши семейства: «Знаете, этот малыш так хорошо учится!» Говорить в таком тоне о моих злоключениях этому незнакомцу, который только что убил человека, показалось мне неуместным и даже немного унизительным. Особенно уязвило меня это его «Смайл — надежный парень!», и я пожалел, что ничем не проявил своего отношения к этому, не ответил ни слова. Мое молчание могли воспринять за ложную скромность дурачка: его кропят святой водой, а он только блаженно разевает рот. Как обидно, что я не сразу нашелся с ответом! Экая досада, что я такой тугодум!
— Кстати, ты ходил на сборище Альмаро? — спросил Фернандес.
Неохотно я ответил:
— Ходил.
Теперь я был настороже. Я боялся, как бы мой товарищ еще чего-нибудь не ляпнул.
— Все прошло гладко?
На этот раз я промолчал. Даже глаз не поднял. Мне видны были только ноги и рука Фурнье. Левая, лежавшая на колене, удивительно сухая, тонкая рука.
— Тем хуже, — заметил Фернандес.
Понемногу все тело у меня онемело. От жары, что ли? А может, от голода? Или от яркого света лампочки, больно резавшего глаза? Мне показалось, мозг мой расплавился.
— Это тот самый Альмаро, — продолжал Фернандес, — который работает на комиссию по перемирию. Он зашибает деньгу и ни в чем себе не отказывает. Сейчас он занимается тем, что снабжает продовольствием Африканский корпус, а также набирает рабочих на стройки Тодта.
Он замолчал и машинально стал постукивать лезвием ножа по стакану. Фурнье молчал. Он о чем-то думал. Я же немного удивился, узнав, каким представляется Фернандесу мой враг. Мне показалось, что это совсем не тот Альмаро, которого я знал. И Фернандес говорил об Альмаро слишком уж спокойно, слишком хладнокровно.
В то же мгновенье я услышал голос Фурнье.
— Его нужно пристукнуть, — сказал он своим бесцветным голосом так обыденно, как если бы речь шла о чем-то совсем простом и очевидном.
И тут же мне показалось, будто огромная птица вцепилась когтями в мою голову и рвет, раздирает ее.
Где-то очень далеко я услышал голос Фернандеса:
— Я того же мнения.
Виски ломило от боли. Я потихоньку потер лоб.
— Вам жарко? — спросила Луиза. — Хотите, я открою окно?
Я жестом отказался и попытался улыбнуться. Заметил, что Фернандес и Фурнье смотрят на меня. Я увидел их как бы сквозь завесу белого света, и они казались мне тоже совсем белыми, похожими на восковые фигуры.
— Дать тебе воды? — спросил Фернандес.
Я опять отказался. Мне было стыдно. Значит, мое недомогание заметили? Но как перебороть его? Мне казалось, что все вокруг меня забито кусками ваты, которые кружились, приближались, слипались друг с другом. Я подумал, что совершил ошибку, отказавшись от еды. Будто сквозь пелену дыма, смутно вырисовывалось передо мною лицо Фурнье. Я слышал, как Луиза и Фернандес говорят о продуктах, о рюкзаках… Я совсем обессилел. Нет, Фернандес сказал не все. Просто он не мог знать всего. Да и Фурнье видел в Альмаро только самого заурядного посредника, состоявшего на жалованье у немцев. Ни Фернандес, ни Фурнье не знали, что представляет собой Альмаро, как опасен такой враг, какую страшную неизбывную ненависть он может возбуждать в людях! Да, Альмаро — это Альмаро и даже больше, чем просто Альмаро.
Опять раздался голос Фернандеса:
— Смайл, а как Моника?
— Что? Моника?
— Ты хоть ей ничего не сказал?