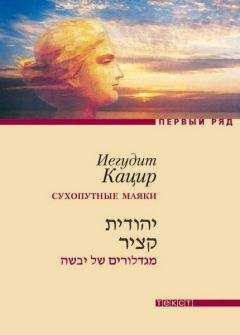— Ну что, греешься на солнышке со всем своим выводком? — кричал ему проходивший мимо Шломо Кнафо.
— Так точно, со всем своим выводком, — гордо отвечал Реувен и приветливо махал ему рукой…
Солдат в сиреневом берете продолжал болтать со своей подружкой, но старушка румынка, целый час проговорившая по второму телефону, наконец-то ушла, и Реувен подошел к освободившемуся аппарату. Когда он снял трубку, его обдало смешанным запахом духов и слюны. В суде по-прежнему было занято, но он решил, что на этот раз не будет обращать внимания на очередь и обязательно дозвонится. Он просто обязан был сообщить Абу-Джалалю, что не приедет. Тем временем он решил еще раз позвонить Оферу. Ни один из его номеров по-прежнему не отвечал. К счастью, очередь еще не собралась, и он снова и снова стал набирать номер суда. Без десяти девять он наконец дозвонился.
— Ой, адвокат Шафир, это вы? — услышал он в трубке знакомый голос секретарши Орли. — Вы даже не представляете, что тут сегодня было. Ужас! Этот араб, ну ваш клиент, пришел на этот раз со своим сыном. И вот, ровно в восемь тридцать суд входит в зал, публика встает, а его сын вдруг валится на пол, начинает кричать, как будто его режут, и извивается так, словно в него бес вселился. Изо рта пена пошла, и он… мне даже неловко как-то об этом и говорить-то… ну, в общем, обкакался он, представляете? Вонь, естественно, жуткая. Судья Авнери страшно перепугалась, зажала нос, а отец взял его на руки, как маленького, и вынес из зала. А ведь он тяжелый небось, ему ведь уже лет пятнадцать или шестнадцать. В общем, положил он его на скамейку, стал вытирать ему лицо… Короче говоря, они оба все еще здесь, и его сын до сих пор лежит без сознания. Авнери ему говорит: «Где ваш адвокат?» А араб: «Еще не приехал». А она: «Это дело меня до инфаркта доведет». А он: «Ваша честь, может, отложите дело еще разок?» Причем вежливо так. А она: «Ну что ж, учитывая сложившиеся обстоятельства, мне придется — подумать. О своем решении я объявлю позже».
Пораженный услышанным, Реувен сглотнул слюну и пробормотал:
— Скажите ему, что я сегодня приехать не смогу, застрял… Поломка у меня тут… авария, в общем…
— Авария?! — в ужасе переспросила Орли. — Кто-нибудь пострадал?
— Нет-нет, не волнуйтесь, — сказал Реувен, — ничего страшного. Знаете, я вам лучше попозже перезвоню… — и поспешно повесил трубку. После чего закрыл глаза и прислонился раскаленным лбом к прохладному телефонному аппарату. Тут кто-то потрогал его за плечо. «Вам нехорошо?» Реувен оглянулся. Перед ним стоял солдат в сиреневом берете. «Нет-нет, спасибо, все в порядке, — пробормотал Реувен. — Просто мне надо к сыну. Он болен, понимаете?» Он и сам не знал, зачем это сказал, но, сказав, понял вдруг, что ему и в самом деле надо немедленно трогаться в путь. «Не болейте», — крикнул ему вслед солдат, но Реувен в ответ даже не обернулся, торопливо перешел шоссе и мимо небоскребов и торгового центра «Мир» пошел по улице Холм Боеприпасов на запад. По направлению к Кирье.
Когда-то, еще до Второй мировой войны, в Кирье жили тамплиеры[51] из Шароны. Проходя мимо их домов с характерными красными крышами, Реувен посмотрел направо и увидел, что у входа на военную базу появилась новая вывеска: «База имени генерала армии Ицхака Рабина». Большие черные буквы резко выделялись на фоне белой стены. Сердце Реувена тоскливо сжалось. У входа на базу и возле двух киосков напротив стояли скучающие солдаты. Он пошел по улице Каплана, миновал Дом писателей и Дом журналистов, дошел до улицы Ибн-Гвироль и свернул под сень высоких темно-зеленых фикусов на улице Дизенгофа. Весь тротуар под ногами был усеян раздавленными полусгнившими округлыми плодами. Неподалеку возвышалось здание концертного зала «Гейхал а-Тарбут». Прямо напротив этого здания в доме номер двадцать восемь по улице Губермана родилась Эммануэлла. Когда-то каждую субботу они приходили сюда к ее родителям, после чего отправлялись иногда в Герцлию, навестить Эмиля и Юдит. Однажды, в тысяча девятьсот семьдесят пятом, он, втайне от жены, пришел сюда, чтобы попросить у тещи денег. Эти деньги были нужны ему, чтобы спасти убыточную фабрику по производству кожаных изделий, где профсоюз поручил ему провести финансовое оздоровление. Правительство пообещало выделить фабрике денежную помощь, но обещанные деньги на счет все не поступали и не поступали, а Реувену очень хотелось выплатить людям заработную плату хотя бы за один месяц. Вообще-то предполагалось, что он произведет на фабрике сокращение штатов, однако ни одну работницу он так и не уволил, а вместо этого ввел на фабрике режим строгой экономии: сам стал по вечерам делать уборку в цеху, в кабинетах и в туалете, сам закупал кожу у поставщиков и даже стал самостоятельно разрабатывать дизайн кошельков и сумок. Правда, когда он приносил свои изделия домой, Эммануэлла их брать отказывалась, заявляя, что они уродливы, но Реувену все равно это дело нравилось. Он любил запах кожи, обожал мять ее в руках, и ему казалось, что тем самым он не только продолжает дело своего деда-кожевенника, но и в какой-то степени оправдывает конспиративную легенду, которая была у него когда-то во время работы в Марокко. Постепенно он так этим увлекся, что практически переселился на фабрику жить. Уходил из дома рано утром, возвращался за полночь, а иногда даже оставался на фабрике ночевать. Лежа на низенькой сохнутовской кровати[52], стоявшей в одном из кабинетов, он даже во сне ощущал запах кожи. Чтобы наскрести денег на зарплату, он взял несколько ссуд в банке, в надежде на то, что правительство все-таки сдержит обещание и он сможет эти деньги вернуть, но в конце концов банки ему в ссудах отказали, непокрытые чеки стали возвращаться назад, и ему пришлось обратиться за помощью к дельцам с черного рынка. Те охотно дали ему денег, но, когда выяснилось, что вернуть их он не может, они стали звонить им домой и угрожали убить Эммануэллу и Офера. После каждого такого звонка Эммануэлла рыдала и говорила, что больше так жить не может. Тогда-то Реувен и решил обратиться к ее матери. Это была последняя соломинка, за которую он мог уцепиться. Каждый раз, как Реувен приходил к родителям Эммануэллы, он снова и снова поражался размеру их гостиной. Она не только могла вместить в себя всю двухкомнатную квартиру его родителей, но еще и свободное место наверняка бы осталось. Поражала его и мебель: овальный обеденный стол из вишневого дерева, вокруг которого стояли двенадцать стульев, диваны в стиле бидермейер, черное немецкое пианино, на котором Эммануэлла играла в детстве, картины Макса Либермана и Лесера Ури на стенах. Кроме того, у отца Эммануэллы был просторный кабинет с библиотекой от пола до потолка и письменный стол в английском стиле. Ее родители приехали из Гамбурга в тридцатые годы и были всегда одеты с иголочки. Отец, Герман, был худой, высокий и ходил в элегантной тройке и шляпе, а мать, Рут, носила платья по последней моде и всегда была безупречно причесана. Они никогда не пропускали ни одного концерта в филармонии. Даже когда в 1972 году Герман умер, Рут по-прежнему продолжала ходить на концерты — с подругами или одна. Кроме того, она посещала лекции по Танаху и истории и состояла волонтером в комитете помощи солдатам и в WIZO[53]. Каждую субботу они обедали, сидя за огромным столом в гостиной, который был сервирован разноцветной посудой от Розенталя и серебряными столовыми приборами. Рут хранила все это добро в старинном буфете с ножками в форме львиных лап. После трапезы он и тесть шли в кабинет и играли в шахматы фигурами из слоновой кости. Как правило, побеждал Реувен.
— У тебя голова прямо как у министра, — сказал ему как-то раз Герман. — На четыре хода вперед думаешь.
— А что? — ответил Реувен. — Может, я когда-нибудь и в самом деле стану министром.
— Ну что ж, — сказал тесть, — поживем — увидим.
Когда Герман умер, они с Эммануэллой навещали тещу почти каждую субботу. Реувен знал, что Рут его любила, и очень надеялся, что жена не слишком много ей на него жалуется. После ужина Эммануэлла с матерью начинали убирать со стола, а он с Офером шел в парк Ган-Яаков и учил сына кататься на самокате. Когда Реувен был мальчишкой, он обожал съезжать на самокате по склону горы и доезжал на нем до Нижнего города или до Бат-Галим. Ему страшно нравилось это ощущение, когда в лицо тебе хлещет ветер, а рубашка раздувается, как парус. В тот день, когда Реувен пришел к теще за деньгами, она накрыла на стол, он поел, а затем сделал глубокий вдох и сказал: «Рут, мне нужны деньги. Много денег. Чтобы хватило на месячную зарплату для пятидесяти работниц». Теща внимательно посмотрела на него поверх своих очков с серебряной цепочкой и молча выписала чек. Благодаря этому чеку Реувен смог выплатить людям зарплату и на какое-то время немного успокоился, но в конечном счете обещанная государством финансовая помощь так и не пришла, и ему пришлось все-таки эту несчастную фабрику продать. Ее согласился купить за полцены один из поставщиков кожи, которому Реувен задолжал большую сумму. За счет выручки от продажи он сумел вернуть ссуды банкам, но чтобы вернуть долг теще, денег не хватило. Узнав об этом, Эммануэлла устроила ему дикий скандал. В такой ярости он ее еще никогда не видел. «Надоели мне все эти твои мапайские игры и пустые обещания! — кричала она. — Корчишь из себя Робина Гуда, а сам только и делаешь, что собираешь крошки с чужих тарелок! Ты даже не понимаешь, как ты смешон. Мне осточертело целыми днями сидеть одной, а по ночам обниматься с подушкой. Я этого не заслужила! Я заслуживаю гораздо лучшего!» В конце концов она заявила, что забирает Офера и уезжает с ним в Тель-Авив. Реувен стал ее отговаривать и попытался обнять, но она его оттолкнула и сказала, что у нее есть другой мужчина. «Что, не ожидал? — спросила она язвительно, увидев его ошарашенное лицо. — Да если бы я даже трахалась с кем-нибудь у тебя под носом, ты бы все равно ничего не заметил. У тебя ведь кожа толще слоновьей. По сравнению с твоей кожа слона — это просто папиросная бумага». Бракоразводный процесс тянулся несколько месяцев. Реувен очень надеялся, что раввинам все-таки удастся уговорить жену вернуться, но когда в день развода он заглянул в ее зеленые глаза, то увидел, что они смотрят на него совершенно равнодушно, и понял, что случившегося уже не поправить. Дрожащей рукой он сунул жене скатанный в трубочку «гет»[54], покорно произнес ритуальную формулу «Отпускаю тебя на свободу» и почувствовал, что внутри у него как будто что-то оборвалось…