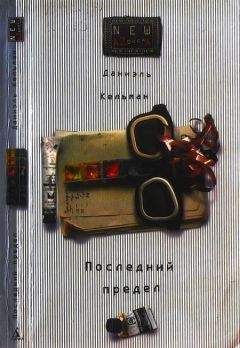Но благоразумнее было не признаваться, что их любишь, они получили убийственные рецензии. Критики сочли их безвкусицей, неловким промахом, проявлением болезни автора. На последней фотографии форматом в целую страницу Каминский, опираясь на трость, в черных очках, со странно безмятежным лицом медленно брел по залам выставки. Поеживаясь, я захлопнул книгу. Опустил ее на пол — и, как оказалось, прямо в большую лужу. Проклятие, теперь ее даже на блошином рынке не продать. Я встал, вытащил пробку и некоторое время наблюдал, как вода маленьким водоворотом уходит в слив. Посмотрел на себя в зеркало. Ну, где лысина? Нет никакой.
Почти все, кому приходилось слышать, что Каминский еще жив, удивлялись. Трудно было поверить в то, что он еще существует, где-то далеко в горах, в большом доме, в тени слепоты, под сенью славы. Что он следит за теми же новостями, что и мы, слушает те же радиопередачи и что он вообще принадлежит нашему миру. Я понимал — уже давно пора написать книгу. Моя карьера хорошо начиналась, но потом в ней наступил спад. Сначала я подумывал о полемике: не обрушиться ли в печати на какого-нибудь известного художника, а то и на целое направление; я мечтал о сокрушительной критике в адрес фотореализма, потом о защите фотореализма, но внезапно фотореализм вышел из моды. Так почему бы не написать чью-нибудь биографию? Я долго колебался, не зная, кого выбрать: Бальтюса, Люсьена Фрейда или Каминского, — но тут умер Бальтюс{12}, а Люсьен Фрейд{13}, по слухам, уже выбрал себе в биографы Ханса Баринга. Я зевнул, вытерся и натянул пижаму. Зазвонил телефон отеля, я прошел в комнату и, не подумав, снял трубку.
— Мы должны поговорить, — сказала Эльке.
— Откуда у тебя мой номер?
— Не важно. Мы должны поговорить.
Наверное, это действительно срочно. Ведь она сейчас в командировке по делам своего рекламного агентства, обычно она не звонила с дороги.
— Слушай, давай отложим. Я очень занят.
— Нет, поговорим сейчас!
— Ладно, — сказал я, — подожди!
Я опустил трубку. В темноте за окном я мог различить вершины гор и бледный месяц. Я глубоко вдохнул и выдохнул.
— Ну, в чем дело?
— Я еще вчера хотела с тобой поговорить, но ты опять ухитрился прийти домой, только когда я уже уехала. И опять…
Я подул в трубку.
— Ничего не слышно!
— Себастьян, это ведь не мобильный телефон. Я нормально тебя слышу.
— Извини, — сказал я. — Одну секунду.
Я опустил трубку. Мной овладела легкая паника. Я догадывался, что она хочет мне сказать, и собирался во что бы то ни стало сменить тему. Или просто положить трубку? Но к этому способу я прибегал уже три раза. Нерешительно я поднес трубку к уху:
— Да, я слушаю!
— Я звоню по поводу квартиры.
— А завтра я не могу перезвонить? Я очень занят, вот вернусь через неделю, и тогда сможем…
— Нет, не сможем…
— Что?
— Ты не вернешься. Сюда, ко мне. Себастьян, ты у меня больше не живешь!
Я откашлялся. Сейчас нужно было что-то придумать. Что-то простое и убедительное. Прямо сейчас! Но как назло, в голову ничего не приходило.
— В тот раз ты сказал, что это только на время переезда. На несколько дней, пока ты не найдешь новую квартиру.
— Ну и что?
— Это было три месяца назад.
— Свободных квартир мало.
— Достаточно, и дальше так не пойдет.
Я молчал. Может быть, это самый действенный прием.
— К тому же я познакомилась с одним человеком. Я молчал. Чего она добивается? Мне что, заплакать, заорать, умолять? А что, могу, легко. Я вспомнил, какая у нее квартира: кожаное кресло, столик с мраморной столешницей, дорогой диван. Комнатный бар, музыкальный центр, большой телевизор с плоским экраном. Неужели она и правда познакомилась с кем-то, кто готов слушать ее болтовню про агентство, вегетарианское питание, политику и японские фильмы? Что-то не верится.
— Я знаю, что это нелегко, — произнесла она срывающимся голосом. — К тому же я не хотела говорить об этом по телефону. Но иначе нельзя.
Я молчал.
— И потом, ты же знаешь, дальше так продолжаться не может.
Она это уже говорила. А почему не может? Я ясно представил себе гостиную: сто тридцать квадратных метров, мягкие ковры, из окна открывается вид на парк. Летними вечерами на стены ложился южный матовый свет.
— Не могу в это поверить, — выдавил из себя я, — и не верю.
— А надо. Я собрала твои вещи.
— Что?
— Можешь забрать свои чемоданы. Или нет, когда приеду домой, пришлю их тебе в «Вечерние известия».
— Только не в редакцию! — завопил я. Этого еще не хватало! — Эльке, давай забудем этот разговор. Ты мне не звонила, я ничего не слышал. На следующей неделе все обсудим.
— Вальтер сказал, что, если ты еще раз сюда придешь, он сам тебя вышвырнет.
— Вальтер?
Она не ответила. Его еще и зовут Вальтер? У него что, не могло быть какого-нибудь другого имени?
— В воскресенье он ко мне переезжает, — тихо сказала она.
Ах вот как! Теперь понял: на что только не идут люди, чтобы найти какое-нибудь жилье.
— А мне куда деваться?
— Не знаю. В гостиницу. К другу.
К другу? Перед моим внутренним взором замаячило лицо налогового инспектора, потом лицо бывшего одноклассника, с которым я случайно столкнулся на улице на прошлой неделе. Мы выпили по стакану пива, не зная, о чем говорить. Все это время я лихорадочно перерывал свою память в поисках его имени.
— Эльке, это наша общая квартира!
— Нет, не наша. Ты хотя бы раз за нее платил?
— Я побелил ванную.
— Нет, ее побелили маляры. Ты их только вызвал по телефону. А заплатила я.
— Ты хочешь предъявить мне счет?
— Почему бы и нет?
— Не могу в это поверить. — Я еще не произносил этой фразы? — Не могу себе представить, что ты на такое способна.
— Еще как, — сказала она. — Я ведь тоже не могла себе этого представить. Не могла! Как продвигается биография Каминского?
— Мы сразу нашли общий язык. По-моему, я ему понравился. Все дело в дочери. Она к нему никого не допускает. Мне надо как-то от нее отделаться.
— Желаю удачи, Себастьян. Может быть, у тебя еще есть шанс.
— Что ты хочешь этим сказать?
Она не ответила.
— Подожди! Нет, просто интересно, ты это, собственно, о чем?
Она положила трубку.
Я тут же набрал номер ее мобильного телефона, но она не ответила. Попробовал еще раз. Монотонный компьютерный голос попросил оставить сообщение. Попробовал еще раз. И еще. На девятом звонке я сдался.
Комната вдруг показалась неуютной. В картинах с эдельвейсами, коровами и всклокоченным крестьянином появилось что-то угрожающее, ночь за окном стала близкой и зловещей. Неужели это мое будущее? Пансионы, комнаты в сдаваемых внаем квартирах, подслушивающие квартирные хозяйки, кухонные запахи днем, а по утрам завывание чужих пылесосов? Нет, ни за что!
Бедняжка, наверное, в совершенном смятении, мне стало ее почти жаль. Насколько я ее знал, она уже почти раскаивалась в том, что мне наговорила; самое позднее завтра утром позвонит мне и плача попросит прощения. Она не умела передо мной притворяться. Уже несколько успокоившись, я взял диктофон, вложил первую кассету и закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться на воспоминаниях.
— …Кого?
— Каминского. Мануэля Ка-мин-ско-го. Вы его знали?
— Мануэля. Да. Да-да. — Старуха улыбалась бессмысленной улыбкой.
— Когда это было?
— Что было?
Она приблизила к моим губам восковое сморщенное ухо. Я наклонился к ней и прокричал;
— Когда?
— Да боже мой, тридцать лет назад.
— Наверное, все пятьдесят будет?
— Нет, поменьше.
— Пятьдесят. Пересчитайте!
— Он был очень серьезный. Мрачный. Вечно держался в тени. Нас познакомил Доминик.
— Сударыня, я, собственно, хотел спросить о…
— Вы слышали Паули? — Она показала на птичку в клетке. — Он так чудно поет. Вы обо всем этом напишете?
— Да.
Голова у нее медленно поникла, на секунду мне показалось, что она заснула, но тут она вздрогнула и снова выпрямилась.
— Он всегда повторял, что долго будет неизвестен. Потом прославится, потом его снова забудут. Вы об этом пишете? Тогда напишите еще, что мы не знали.
— Чего не знали?
— Что можно дожить до такой старости…
* * *
— …Так как, вы сказали, вас зовут?
— Себастьян Цёльнер.
— Вы из университета?
— Да… Из университета.
Он засопел и неуклюже провел рукой по лысине.
— Дайте подумать. Познакомился? Я спросил у Доминика, кто этот надменный тип, он сказал, Каминский, как будто это что-то значит. Вы, может быть, знаете, в ту пору уже исполнялись мои симфонии.
— Как интересно, — устало откликнулся я.