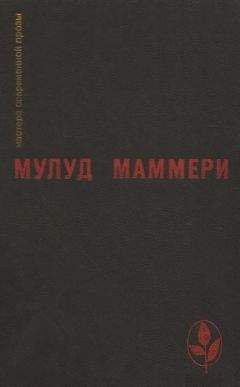На этот раз мы с Аази объединились и стали отговаривать отца; но он и слушать ничего не хотел. Кончилось тем, что мы перестали возражать и Аази отправилась за ключом. Она долго не возвращалась, а в конце концов заявила, что никак не может его найти. Пришлось устроить Муха в комнате Идира, который куда-то исчез и уже несколько дней не ночевал дома.
Вчера в полночь нас навестил Уали. Вид у него был боевой: итальянский автомат, сандалии из воловьей кожи, какие носят у нас крестьяне, лихо закрученные усы. С ним были двое приятелей.
Он стал мне о них что-то рассказывать, а в это время послышалось бормотанье Муха.
— Он все еще хворает? — спросил Уали, сразу узнав голос Муха.
— Хворает, — ответил я.
— Можно к нему? Прости, Мокран, что злоупотребляю твоей добротой, но что поделаешь, Мух был моим приятелем, а кроме того, когда ведешь такую жизнь, как я теперь, нельзя ничего откладывать на завтра.
— Конечно. Я провожу тебя.
Мы оставили у очага его спутников, которые за все время не сказали ни слова, и пошли в комнату Идира.
Я тихонько толкнул дверь.
Уали зажег электрический фонарик, отыскал в потемках постель и направил луч света на Муха. Увидев больного, он невольно вздрогнул от ужаса.
Мух лежал на спине, запрокинув голову. Он был как скелет, его худое тело еле угадывалось под одеялом. Рот был раскрыт, а лицо словно покрыто маской — жесткой, гладкой, неподвижной, как у мертвеца. На нем не было печати умиротворения, все черты выражали страдание, и на него тяжело было смотреть.
С губ больного срывались невнятные звуки; порою, однако, удавалось различить несколько слов — то были преимущественно имена покойных членов нашей семьи, иной раз умерших очень давно. Пастух звал их по многу раз, одного за другим, с таким отчаянием, будто никто из них не хотел ему ответить.
Уали растерялся; его ужасало это лицо, искаженное страданием, лицо, которое он знал таким прекрасным. Он решил обратиться к больному.
— Здравствуй, Мух! Здравствуй!
Но вместо ответа Мух стал призывать каких-то незнакомых нам людей. Уали был смущен. Он уронил несколько пузырьков с лекарствами, которые стояли на столике у кровати, и сразу же предложил мне уйти. Мух на мгновение умолк. На пороге мы опять услышали, как он зовет проносящиеся перед ним призраки — зовет долго, безнадежно.
* * *
Уали разбудил меня еще до рассвета. Ему пора было уходить. Всю ночь шел дождь, снаружи доносилось его бесконечное, однообразное шуршание. Как ни старались мы не шуметь, отец проснулся и вскоре пошел к нам.
Пока Уали и его спутники собирались в дорогу, отец заглянул к Муху и сразу же вернулся обратно.
— Тебе надо съездить за врачом, и чем скорее, тем лучше, — обратился он ко мне. — Возьми бурнус из верблюжьей шерсти, оседлай мула и отправляйся немедленно.
Врач колониальной администрации жил в восемнадцати километрах от Тазги. Было еще темно, а дождь, ливший уже целые сутки, вероятно, размыл все дороги.
Но все равно — надо было ехать, так как состояние Муха ухудшилось.
— Если ты соберешься быстро, Мокран, мы можем отправиться вместе: нам по пути, — сказал Уали.
Я пошел за своим толстым коричневым бурнусом. В комнате у меня догорала лампа. Аази спала, сидя возле очага, прислонясь к стене головой. Вероятно, ждала моего возвращения, а потом уснула. Я осторожно открыл большой ясеневый ларь, достал из-под кучи одеял бурнус и на цыпочках вышел из комнаты.
Отец уже оседлал двух мулов. Мы сразу отправились по размытой, каменистой дороге в северном направлении, долго ехали молча. Уали впереди, с автоматом наготове, я за ним, а его товарищи замыкали шествие. Еще только начинало светать, когда на одном из поворотов я с удивлением заметил, что силуэт Уали вдруг исчез в кустарнике повыше дороги. Я обернулся: те двое тоже сгинули. Я только услышал, как три голоса попрощались со мной и поблагодарили за гостеприимство.
Сначала доктор отказался было ехать в такую «собачью погоду». Он стал уверять меня, что здоровые часто зря беспокоятся о больном, который не так уж плох. Мне пришлось подробно описать ему состояние Муха, настаивать; господин Никозиа наконец соблаговолил внять моим мольбам, однако, несмотря на все мои старания, выехали мы лишь через добрых два часа — это время доктор провел в своей комнате, как он выразился, «готовясь к визиту».
Весь путь мы проехали под тем же мелким, упорным, частым, назойливым дождем. Часа через три перед нами показалась Тазга. Дороги были безлюдны. За все время доктор всего лишь раз открыл рот, чтобы выругаться:
— Ну и погодка, черт побери!
На площади, у наших больших ворот, я застал мальчика-подпаска, который заменил Муха. Он притулился к воротам и дрожал от холода, а по щекам его текли крупные слезы.
— Озяб? — спросил я.
— Нет.
Он упорно избегал моего взгляда. Я взял его за подбородок.
— Посмотри на меня.
Он бросил на меня быстрый, уклончивый взгляд, влажный, как у побитой собаки, и в душу мне запал страх: я понял его. Я осмотрелся по сторонам: во дворе ни души, ни единого звука, кроме глухого, назойливого шума дождя. Тут сомнения мои окончательно рассеялись, я понял, что Муха, моего маленького приятеля Муха Шаалала, как звали его дети, уже не стало.
Пастушок стоял все на том же месте, а я повел доктора в комнату, где оставил больного. Передняя была полна народу — мужчины и женщины стояли молча, кое-кто сидел. Лишь двое-трое медленно подняли головы, когда врач прошел мимо них.
— Мы, кажется, опоздали, — сказал господин Никозиа.
Возле кровати, где Мух спал последним сном, мой отец тихим, спокойным голосом читал молитву: нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед — пророк его. Рядом с ним стояла моя мать, она приложила к поджарым губам указательный палец, а свободной рукой перебирала четки. Аази тихо плакала.
Отец поблагодарил доктора за то, что он приехал, несмотря на такое ненастье, а потом обратился ко мне:
— Позавтракай с господином Никозиа, а потом опять возьми мула и отправляйся к буадду за матерью покойного, чтобы она успела проститься с сыном. А господина Никозиа проводит подпасок.
Племя буадду живет километров за сорок от нашего. Мне пришлось взять мула у соседа, так как наших отдали доктору с провожатым.
Дождь перестал, зато сильно похолодало. На капюшон, которым я плотно закрыл голову, падали крупные градины и затем скатывались на бурнус. Несколько раз мне приходилось спешиться, чтобы размять окоченевшие ноги, ибо по мере приближения к горе становилось все холоднее. Когда наконец в сумерках я завидел вдали деревню Муха, в воздухе уже плясали редкие, неторопливые снежинки.
Мать Муха, Тасадит, сморщенная, согбенная старуха, опирающаяся на узловатую палку, хотела отправиться в путь немедленно. Я ей объяснил, что изнемогаю от усталости, да и вообще нечего даже думать о поездке ночью и в такую стужу. Она порывалась ехать без меня, и пришлось созвать всех соседей, чтобы они уговорили ее подождать до утра. Вечером она заставила меня раз десять повторить рассказ о болезни и смерти сына; она то упрекала меня, что я не сообщил ей о болезни раньше, то бранила меня, то, наоборот, бросалась целовать мне руки, когда я уверял, что ее сын ни в чем у нас не нуждался и жил весело и беззаботно. Временами она умолкала, а затем снова принималась стонать, раскачиваясь над очагом жалким старческим телом и то и дело прикладывая пальцы к своим иссохшим векам.
Усталость не давала мне крепко уснуть. Я то и дело просыпался и всякий раз сквозь полусон видел, как мерно раскачивается старуха, до меня доносился ее чуть слышный скорбный голос.
Она разбудила меня еще до рассвета, приотворила дверь и вернулась, в отчаянии вздымая руки. Я подбежал к порогу: на дворе лежал снег толщиною метра в полтора. О поездке не могло быть и речи.
Старуха заламывала руки, кричала, что все равно поедет, пусть даже ее занесет снегом. Я успокоил ее с большим трудом. Скорбь ее была безмерна. Я решил сделать для нее все, что в моих силах. В их селении жил некий человек лет сорока, который долгое время работал у моего отца. Это был здоровенный рыжий детина, славившийся как своим ростом, так и незаурядной силой. Я отправился к нему и спросил, не согласится ли он взять моего мула и проводить к нам мать Муха. Он ответил, что очень рад случаю повидаться с моим отцом.
Утром они уехали, а я остался один в домике Тасадит. Еды у меня было очень мало. В единственной комнате старухи день и ночь разгуливал ветер, врываясь через щели и двери (в окнах щели были заткнуты тряпьем). Я затопил очаг, и вскоре вся комната наполнилась едким, густым дымом, который разъедал мне глаза. Время от времени я приоткрывал дверь, тогда дым, подхваченный ветром, клубами вырывался наружу.
Каждый день я собирался на следующее же утро отправиться домой, однако снег медленно, но упорно все валил и валил. Когда он переставал, ветер, проникая сквозь щели, что-то шептал мне то ласково, то гневно.