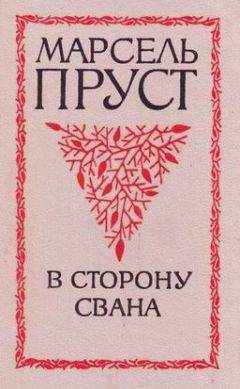Вот почему я не входил больше в запертую теперь комнату дяди Адольфа; вместо этого, постояв немного около задней кухни, в то время как Франсуаза, появившись на пороге, говорила мне: «Я прикажу судомойке сервировать кофе и подать горячую воду, а мне самой пора проведать г-жу Октав», — я решал возвратиться домой, поднимался прямо наверх к себе в комнату и принимался за чтение. Судомойка была лицом отвлеченным, своего рода постоянным учреждением, которому неизменность функций сообщала как бы непрерывность и тожество, несмотря на вечную смену преходящих форм, в которых этот персонаж воплощался: в самом деле; мы никогда не находили на этой должности одну и ту же девушку в течение двух лет подряд. В год, когда мы поедали такое количество спаржи, судомойка, которой обыкновенно поручалось чистить ее, была бедным болезненным созданием. Когда мы приехали на Пасхе, она находилась уже в довольно поздней стадии беременности; и было даже удивительно, что Франсуаза заставляет ее столько бегать и взваливает на нее столько работы: ведь она начинала с трудом носить перед собою таинственную корзину, с каждым днем все более наполнявшуюся и обозначавшую великолепные свои формы под складками ее широких передников. Передники эти напоминали плащи, облекающие некоторые аллегорические фигуры Джотто. Я знал их по фотографиям, подаренным мне г-ном Сваном. Он сам обратил наше внимание на это сходство и, спрашивая нас о судомойке, говорил: «Как поживает „Милосердие“ Джотто?» Впрочем, бедная девушка, раздутая беременностью, вплоть до угловатого, квадратного лица, вплоть до прямых щек, действительно была очень похожа на сильных и мужеподобных дев, скорее матрон, в которых олицетворены добродетели в капелле Арена. В настоящее время для меня ясно также, что эти падуанские Добродетели и Пороки имели сходство с нею еще и в другом отношении. Подобно тому, как фигура этой девушки была усложнена добавочным символом, который она носила перед своим животом, как бы вовсе не понимая его смысла, ибо ни одна черта ее лица ни в малейшей степени не выражала его красоты и его идеи, носила как обыкновенный тяжелый груз, — так и дородная хозяйка, изображенная в Арене под надписью Caritas, репродукция которой висела на стене моей классной комнаты в Комбре, казалось, нисколько не подозревала о том, что она является воплощением этой добродетели, ибо ни малейший намек на милосердие, казалось, никогда не мог быть выражен ее энергичным и грубоватым лицом. Тонкая изобретательность художника заставила ее попирать ногами земные сокровища, но совершенно так же, как если бы она топтала виноград, чтобы выдавить из него сок, или, еще лучше, как она взобралась бы на мешки, чтобы стать выше; и она протягивает Богу свое пылающее сердце, скажем лучше, «передает» его ему, как кухарка передает какой-нибудь пробочник через окошечко своего подвала лицу, которое спрашивает его у нее из окна нижнего этажа. Казалось бы также, что Зависть должна иметь на своем лице некоторое выражение зависти. Но и в этой фреске символ занимает столько места и изображен так реально, змея, шипящая в губах Зависти, так велика, она до такой степени заполняет ее широко раскрытый рот, что для удержания ее напряжены все мускулы лица Зависти, как мы наблюдаем это у ребенка, надувающего своим дыханием резиновый шар; вследствие этого внимания Зависти, — а также и наше, — всецело сосредоточено на работе ее губ, которая не дает времени для завистливых мыслей.
Несмотря на все восхищение г-на Свана фигурами Джотто, я долгое время не испытывал никакого удовольствия при рассматривании в нашей классной комнате (где были развешаны привезенные им копии) этого «Милосердия» без милосердия, этой «Зависти», производившей впечатление гравюры из медицинской книги, иллюстрирующей сжатие гортани или нёбного язычка вследствие опухоли языка или введения в рот инструмента оператора, этой «Справедливости», серенькое лицо которой с мелкими и правильными чертами было так типично для многих красивых горожанок Комбре, набожных и суховатых, которых я видел в церкви во время мессы и многие из которых давно уже были завербованы во вспомогательные отряды Несправедливости. Но впоследствии я понял, что поражающая странность и своеобразная красота этих фресок обусловлена значительным местом, занимаемым в них символом; и то обстоятельство, что он был изображен не как символ, ибо символизированная идея нигде не была выражена, но как нечто реальное, нечто действительно испытываемое и материально осязаемое, придавало значению произведения как бы большую буквальность и большую точность, придавало его назидательности большую наглядность и большую действенность. То же самое можно сказать и о нашей бедной судомойке: разве наше внимание не привлекалось беспрестанно к ее животу благодаря отягчавшему его бремени? И разве мысль умирающих не бывает чаще всего обращена к реально ощутимой, болезненной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, являющейся как раз той стороной, которую она им открывает, дает грубо почувствовать и которая гораздо больше похожа на сокрушительную тяжесть, на трудность дыхания, на мучительную жажду, чем на отвлеченное понятие, называемое нами смертью?
Эти падуанские Добродетели и Пороки, наверное, были написаны с огромным реализмом, если они казались мне такими же живыми, как беременная служанка, и если сама она казалась едва ли в меньшей степени аллегорической, чем они. И, может быть, это неучастие (по крайней мере, кажущееся) души человека в добродетели, действующей через него, имеет, помимо своей эстетической ценности, если не психологическую, то, во всяком случае, как говорится, физиономическую реальность. Когда в последующей своей жизни мне доводилось встречать, в монастырях например, подлинно святые воплощения деятельного милосердия, то у них бывал обыкновенно живой, решительный, невозмутимый и грубоватый вид очень занятого хирурга, лицо, на котором невозможно прочесть никакого соболезнования, никакой растроганности зрелищем человеческого страдания, никакого страха прикоснуться к нему, лицо, лишенное всякой мягкости, непривлекательное и величественное лицо подлинной доброты.
В то время как судомойка, — невольно сообщая блеск превосходству Франсуазы, как Заблуждение, по контрасту, делает более блистательным торжество Истины, — подавала кофе, который, по мнению мамы, был не более чем горячей водичкой, и приносила затем в наши комнаты горячую воду, которая была только чуть теплой, я растягивался на кровати, с книгой в руке, в своей комнате, трепетно охранявшей свою зыбкую прозрачную свежесть от послеполуденного солнца, луч которого все же ухитрялся просунуть сквозь щелку в прикрытой ставне золотистые свои крылья и замирал неподвижно в уголку оконной рамы, словно застывший на цветке мотылек. В комнате царил полумрак, едва позволявший читать, и ощущение яркого дневного света давал мне только доносившийся с улицы Кюр стук (это Камю, извещенный Франсуазой, что тетя не «отдыхает» и что можно, значит, шуметь, заколачивал какие-то пропыленные ящики), который, отдаваясь в гулком воздухе, характерном для жаркой погоды, казалось, каскадом рассыпал далеко кругом кроваво-красные звезды; а также мухи, исполнявшие передо мной, в негромком концерте, своеобразную летнюю камерную музыку; музыка эта не вызывает представления о лете таким способом, как мелодия человеческой музыки, услышанная случайно в погожий летний день, напоминает нам его впоследствии, — она соединена с летом более тесной и более необходимой связью: рожденная солнечными днями и возрождающаяся лишь вместе с ними, заключающая в себе какую-то частицу их сущности, она не только пробуждает их образ в нашей памяти, но служит гарантией их возврата, их действительного присутствия, обступающего нас со всех сторон и как бы непосредственно осязаемого.
Этот прохладный полумрак моей комнаты был по отношению к яркому свету, заливавшему улицу, тем, чем тень является по отношению к солнечному лучу, то есть таким же лучезарным, как и солнечный свет, — он рисовал моему воображению целостную картину лета, лишь частями которой могли бы наслаждаться мои чувства, если бы я отправился на прогулку; таким образом, он отлично гармонировал с моим покоем, испытывавшим (благодаря приключениям, рассказанным в моих книгах и как раз в это время волновавшим его), подобно руке, неподвижно покоящейся в текучей воде, толчки и движение мятущегося потока жизни.
Но бабушка, даже если слишком жаркая погода портилась и разражалась гроза или налетал шквал, поднималась ко мне и упрашивала меня выйти на свежий воздух. И, не желая расставаться со своей книгой, я шел с нею в сад, под старый каштан, забирался в обтянутую полотном плетеную будочку, усаживался там и чувствовал себя скрытым от взоров лиц, которые могли бы прийти к нам в гости.
И мысли мои не были разве тоже своего рода убежищем, в глубине которого я чувствовал себя укрытым, даже когда смотрел на происходившее вне меня? Когда я видел какой-нибудь внешний предмет, сознание, что я вижу его, оставалось между мною и им, окружало его тонкой невещественной оболочкой, делавшей для меня навсегда недоступным прямое соприкосновение с его материей: она как бы обращалась в газообразное состояние, прежде чем я успевал прикоснуться к ней, вроде того как накаленное тело, приближаемое к смоченному предмету, не способно прикоснуться к его влажности, потому что такой предмет всегда оказывается отделенным от него слоем паров. На своего рода экране, пестревшем различными чувствами и впечатлениями, которые, во время моего чтения, развертывало передо мной мое сознание и источником которых являлись как самые затаеннейшие мои чаяния, так и чисто внешнее восприятие полоски горизонта, тянувшейся перед моими глазами в конце сада, — самым интимным из моих переживаний, рисовавшимся прежде всего на этом экране, рулем, беспрестанно находившимся в движении и управлявшим всем прочим, была уверенность в философском богатстве и красоте читаемой мною книги и мое желание усвоить их себе, какова бы ни была эта книга. Ибо если даже я покупал ее в Комбре, заметив ее в лавочке Боранжа, находившейся слишком далеко от нашего дома для того, чтобы Франсуаза могла делать там свои закупки, как у Камю, но имевшей более богатый выбор канцелярских принадлежностей и книг, — если даже, повторяю, я замечал ее привязанной веревочками к мозаике брошюр и номеров ежемесячных журналов, покрывавших обе створки дверей лавочки, более таинственных и более изобилующих мыслями, чем двери какого-нибудь средневекового собора, то ее приобретение объяснялось тем, что я слышал о ней отзыв как о замечательном произведении из уст преподавателя или школьного товарища, владевшего в то время, как мне казалось, тайной истины и красоты, сущностей смутно угадываемых мною и наполовину мне непонятных, познание которых было неясной, но неизменной целью моего мышления.