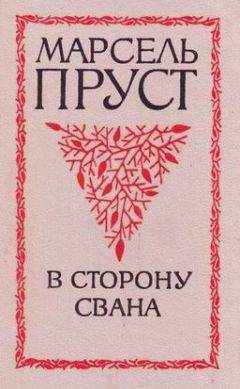В заключение, продолжая следовать от самых интимных своих состояний к впечатлениям поверхностным, одновременно данным и тесно соприкасающимся с ними в моем сознании, я нахожу, перед тем как достигнуть окружающего их реального горизонта, удовольствия иного порядка: удовольствие вдыхать напоенный ароматом воздух, сознавать, что мне здесь не помешает зашедший к нам в это время гость; наконец, когда били часы на колокольне Сент-Илер, — удовольствие наблюдать, как опадает, капля за каплей, истраченная уже часть послеполуденного времени, пока до меня не доносился последний удар, позволявший мне определить их число; и воцарявшееся затем долгое молчание, казалось, возвещало о том, что в голубом небе надо мною начинается длинная часть дня, еще остававшаяся в моем распоряжении для чтения до вкусного обеда, приготовляемого сейчас Франсуазой, который подкрепит меня после утомления, причиненного напряженным следованием во время чтения книги за перипетиями ее героя. И при каждом бое часов мне казалось, что прошло всего только несколько мгновений с тех пор, как отзвучали удары предшествующего часа; самый последний из этих ударов только что запечатлелся в непосредственном соседстве с предшественником на поверхности неба, и я не мог поверить, что шестьдесят минут могли уместиться на этом маленьком отрезке голубой дуги, заключенном между их двумя золотыми отметками. Случалось даже, что этот преждевременный бой заключал в себе на два удара больше предыдущего, — промежуточного боя я, следовательно, не слышал, — нечто, имевшее место в действительности, не имело места для меня; интерес к чтению, магический, словно глубокий сон, ввел в заблуждение мои галлюцинирующие уши и стер звук золотого колокола с лазурной поверхности тишины. Прекрасные воскресные послеполуденные часы под каштаном нашего сада в Комбре, тщательно очищенные мною от всех мелких событий моей повседневной жизни и заполненные жизнью, богатой фантастическими приключениями и причудливыми замыслами, в лоне местности, орошенной быстро бегущими речками, — вы все еще вызываете в моей памяти эту жизнь, когда я о вас думаю, и вы действительно содержите ее в себе, ибо мало-помалу вы ограждали и замыкали ее — в то время как я все дальше углублялся в мою книгу и постепенно спадал полуденный жар — в непрерывно нараставший, медленно менявший форму и испещренный листвою каштана кристалл вашей безмолвной, звонкой, благоуханной и прозрачно-ясной череды!
Иногда в самый разгар моего чтения я бывал отвлечен от книги дочерью садовника, вбегавшей во двор, как угорелая, опрокидывая на пути кадку с апельсинным деревом, обрезывая палец, выбивая зуб, с криком: «Идут! Идут!» Этими возгласами она приглашала Франсуазу и меня бежать скорее на улицу, чтобы ничего не потерять из зрелища. Это случалось в дни, когда гарнизон, расквартированный в Комбре, выходил из казарм на какое-нибудь учение, направляясь обыкновенно по улице Сент-Гильдегард. В то время как наши слуги, усевшись рядышком на стульях за садовой оградой, смотрели на горожан, совершавших воскресную прогулку, и себя им показывали, дочь садовника замечала сверкание касок в просвет между двумя отдаленными домами на Вокзальном бульваре. Слуги стремительно бросались со своими стульями обратно в сад, ибо когда кирасиры дефилировали по улице Сент-Гильдегард, они заполняли ее во всю ширину, и галопирующие их лошади касались стен домов, затопляя тротуары, как разлившаяся река затопляет берега слишком узкого русла.
— Бедные дети, — со слезами на глазах говорила Франсуаза, едва только подойдя к решетке, — бедные юноши: они будут скошены, как трава на лугу; одна мысль об этом потрясает меня ужасом, — прибавляла она, прикладывая руку к сердцу — месту, в котором она ощущала потрясение.
— Разве не красивое зрелище, мадам Франсуаза, представляют все эти парни, не дорожащие жизнью? — спрашивал садовник, чтобы подзадорить ее.
Слова его оказывали действие:
— Не дорожащие жизнью? Но чем же тогда дорожить, если не жизнью, единственным подарком, который Бог никогда не делает дважды. Увы! Вы правы! Они действительно не дорожат ею. Я видела их в семидесятом году; да, в этих злосчастных войнах они совсем забывают о страхе смерти; ни дать ни взять, полоумные; и потом, они не стоят даже веревки, чтобы повесить их; это не люди, это львы. — (Для Франсуазы сравнение человека со львом — она произносила это слово с тем выражением, с каким мы произносим: дикий зверь, — не содержало в себе ничего лестного для человека.)
Улица Сент-Гильдегард заворачивала слишком круто, чтобы мы могли видеть приближение солдат издали, и лишь в упомянутый выше просвет между двумя домами Вокзального бульвара мы замечали движение все новых касок, сверкавших на солнце. Садовнику очень хотелось знать, долго ли они еще будут идти, так как солнце жарило и он чувствовал жажду. Тогда дочь его выбегала вдруг за ограду, делала вылазку, словно из осажденного города, достигала поворота улицы и, сотню раз рискуя жизнью, возвращалась, принося нам, вместе с графином прохладительного напитка, известие, что, по крайней мере, целая тысяча солдат безостановочно движется в сторону Тиберзи и Мезеглиза. Примирившиеся Франсуаза и садовник рассуждали о том, какого поведения следует держаться во время войны.
— Поверьте, Франсуаза, — говорил садовник, — революция лучше войны, потому что когда объявляют ее, то сражаться идут только желающие,
— Ах да! Это, по крайней мере, понятно для меня, это более честно.
Садовник был уверен, что по объявлении войны останавливается движение на всех железных дорогах.
— Ну да, конечно: чтобы никто не мог убежать, — говорила Франсуаза.
Садовник поддерживал ее замечанием: «О, это хитрецы!» — так как, по его мнению, война была не чем иным, как только ловкой штукой государства, пытающегося одурачить народ, и что не нашлось бы ни одного человека на свете, который не увильнул бы от нее, если бы представилась возможность.
Но Франсуаза торопилась обратно к тете, я возвращался к своей книге, а слуги снова усаживались у ворот смотреть, как пыль садится на мостовую и как затихает возбуждение, вызванное солдатами. Еще долго спустя после восстановления спокойствия необычная толпа гуляющих продолжала усеивать улицы Комбре и перед каждым домом, включая и те, из которых обыкновенно никто не показывался, слуги и даже хозяева, усевшись на лавочке и глазея на улицу, обрамляли пороги прихотливой темной каймой, вроде каймы водорослей и раковин, которую высокий прилив оставляет на берегу, покрывая его как бы узорчатым флером, после того как море ушло прочь.
За исключением таких дней, я мог обыкновенно спокойно отдаваться чтению. Но однажды визит Свана, прервавший мое чтение, и сделанное им замечание о совсем новом для меня авторе, Берготе, книгу которого я как раз в то время читал, привели к тому, что, долгое время спустя, образ одной из женщин, составлявших предмет моих мечтаний, стал рисоваться перед моими глазами уже не на фоне стены, увитой гирляндами фиолетовых цветов, а на совсем другом фоне, на фоне портала готического собора.
В первый раз услышал я о Берготе от одного из своих школьных товарищей по фамилии Блок, который был несколько старше меня и от которого я был в самом неподдельном восхищении. Услышав от меня однажды выражение восторга по поводу «Октябрьской ночи», он шумно, как труба, расхохотался и сказал мне: «Отнесись критически к твоему в достаточной степени низменному пристрастию к почтенному Мюссе. Это субъект весьма зловредный и влияние оказывает самое пагубное. Должен, впрочем, признать, что он, и даже совсем почтенный Расин, оба сочинили в своей жизни по одному стиху, не только достаточно ритмичному, но и лишенному решительно всякого смысла, что в моих глазах является высшей заслугой поэта. Вот эти стихи: „La blanche Oloossone et la blanche Camire“ и „La fille de Minos et de Pasiphae“. Они были мне указаны как обстоятельство, смягчающее вину этих двух мошенников, в статье моего дорогого учителя, папаши Леконта, лицезрение которого приятно бессмертным богам. Кстати, вот книга, которую мне сейчас некогда прочесть и которую как будто рекомендует этот простофиля. Как мне передавали, он считает автора ее, некоего почтенного Бергота, одной из самых субтильнейших бестий; и хотя он обнаруживает подчас в своей критике совершенно необъяснимую снисходительность, все же слова его являются для меня дельфийским оракулом. Почитай поэтому лирическую прозу Бергота, и если титанический собиратель ритмов, написавший „Багхавата“ и „Борзую Магнуса“, сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты насладишься, дорогой мэтр, нектаром олимпийских богов». Саркастическим тоном он как-то попросил меня называть его «дорогим мэтром» и сам называл меня так же. Но мы испытывали некоторое подлинное удовольствие от этой игры, ибо еще недалеко ушли от возраста, когда, давая название вещи, мы считаем, будто творим ее.