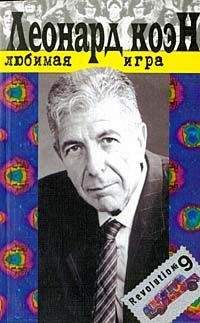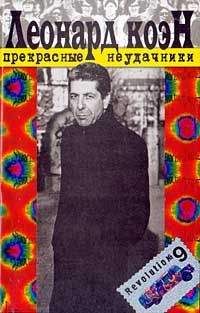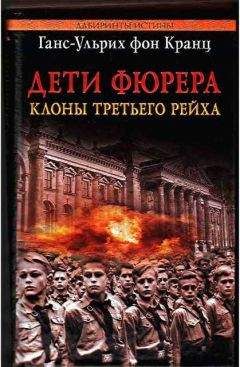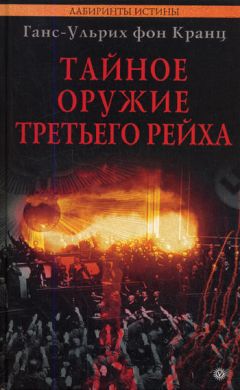Он стоял очень неподвижно.
Нью-Йорк. Он жил в небоскребе Всемирного дома студентов. Его окно выходило на Гудзон. Его утешало, что это не его город, и ему не нужно протоколировать его уродливую пышность. Он бродил по улицам, где хотел, и не нужно было вставлять их названия в рассказы. Нью-Йорк уже воспет. Притом великими голосами. Поэтому он может свободно наблюдать и пробовать. Все говорят вроде как на английском, никакого презрения, он повсюду мог разговаривать с людьми. Рано утром он бродил по рынкам. Спрашивал названия рыб, застывших и серебристых в ящиках со льдом. Чаще ходил на свои семинары.
Он увидел самого прекрасного человека на земле и добился ее. Шелл.
1
Ее второе имя было Маршелл, в честь материнской родни, но называли ее Шелл.
Ее предки пересекли океан достаточно рано, чтобы обеспечить ее матери членство в ДАР[72]. Семья произвела на свет двух посредственных сенаторов и некоторое количество очень хороших торговцев. Последние семьдесят пять лет все мужчины (кроме совершенных идиотов) поступали в Уильямс[73]. Из четырех детей Шелл была третьей. Ее старший брат был одним из тех несчастных, кто Уильямс не осилил. Усугубив свое постыдное положение, он удрал с баптисткой, и доставил своему отцу горькую радость, поссорившись с женой из-за образования детей.
Шелл выросла в большом белом доме на окраине Хартфорда, где ее прадед по матери основал преуспевающий банк. Каменный фонтан в саду, множество акров земли и ручей, где отец разводил форель. После того, как младший сын благоразумно женился и уехал в Питтсбург, Шелл и ее сестре купили лошадей. Построили конюшню – миниатюрную копию дома. Ее отцу нравилось создавать миниатюрные копии дома. Между деревьями располагались курятник, кроличьи клетки, кукольный дом и птичий домик, все – копии оригинала, который (как они напоминали гостям по выходным) предназначался для людей.
Домашние дела проводились со множеством ритуалов и по этикету. И мать, и отец, внимательно читавшие все, что касалось американской истории, коллекционеры колониальной мебели, даже гордились тем, что никогда не соблазнялись поездками в Европу.
В обязанности Шелл входило каждую весну бросать в каменный фонтан срезанные цветы. К профессии девочки она подходила очень серьезно. Считала, что сестра ее слишком неотесана, удивлялась, почему мать повышает голос, обижалась, когда та спорила с мужем. Шелл не просто верила в сказки – она экспериментировала с горошинами под матрасом.
Она терпеть не могла свои волосы, черные, густые и длинные. После мытья с ними невозможно было справиться, и ее называли «зулуска». Но она предпочитала их не обрезать – помня, вероятно, о косах, что спускаются из башенных окошек. Она не любила свое тело. Явно не тело принцессы. Оно не росло в нужных местах. Она завидовала грудям младшей сестры, ее прямым рыжеватым волосам. Свои она атаковала со щеткой в руке и не начинала считать разы прежде, чем проводила по волосам по крайней мере двести раз. Она ужаснулась, когда один из приятелей сестры попытался ее поцеловать.
– Зачем? – спросила она.
Парень не знал, зачем. Он ждал одобрения или отказа, а не допроса.
– Затем, что ты красивая…
Он произнес это с вопросительной интонацией. Шелл развернулась и убежала. Внезапно ей почудилось, что трава бела, белы деревья. Она уронила цветы, предназначенные для фонтана, потому что те были белы и грязны, словно кости. Она была, как паук в поле пепла.
– Primavera, – сказал Бривман, выслушав эту историю. – Не Ботичелли – Джакометти[74].
– А ты не дашь мне хоть что-нибудь оставить уродливым?
– Нет.
Кроме того, Бривман не мог не добавить к своей памяти образ нежной американской девочки, что бежит через лес, разбрасывая дикие цветы.
Шелл нравилось раннее утро. Она попросила комнату с большим окном на восток – это была детская. Ей разрешили самой выбрать обои. Солнце ползло по ситцевому покрывалу. Это было ее чудо.
Как выяснилось, жизнь – не сплошь Роберт Фрост[75] и «Маленькие женщины»[76].
Однажды воскресным утром она сидела в материнской постели. Они слушали детскую передачу. Хлопья снега размером с белые головки одуванчиков дрейфовали по диагонали через множество оконных стекол. Волосы Шелл, собранные черной лентой, мягко и гладко лежали у нее на груди. Мама их перебирала.
В эфире ребенок пел простенькую арию.
– Папа такой глупый. Говорит, вы все растете так быстро, что скоро дом будет слишком большим.
– Он никогда не оставит своих рыбок и цыплят.
Пальцы матери лениво сплетались и расплетались, но работали только большой и указательный, а между ними – несколько прядей волос. Тот жест, которым завсегдатай распродаж щупает ткань лацкана, только более ритмичный и длительный.
Она слабо улыбалась и смотрела Шелл в лицо, но Шелл не могла поймать ее глаз. Движения сделали волосы безличными. Они не принадлежали Шелл. Двигалось одеяло. Другой рукой мама что-то под ним делала. В том же ритме.
Есть такое молчание, каким мы реагируем на пороки, дурные привычки, сибаритство наших близких. Оно не имеет отношения к осуждению. Шелл лежала очень неподвижно, глядя на снег. Она находилась между снегом и матерью, разъединенная с ними обоими.
Ведущий пригласил всех мальчиков и девочек присоединиться к Каравану на следующей неделе, когда они все вместе отправятся в далекую Грецию.
– Ох, ну разве мы не лентяйки? Вставайте-ка, мисс Неженка.
Шелл одевалась ужасно долго. Дом казался очень древним, его населяли призраки старых гигиенических салфеток, истерзанных подвязок, использованных бритвенных лезвий. Она столкнулась со слабостью взрослого без малейшей детской жестокости.
Когда отец, красный и веселый, вошел после прогулки по лесу и поцеловал мать, Шелл смотрела очень внимательно. Она жалела о папиной неудаче, которая, как она поняла, была такой же частью его, как страсть к миниатюрным домам и тихий интерес к животным.
Это случилось за несколько лет до того, как ее мать начала пользоваться неотъемлемыми правами менопаузы. Она стала постоянно ходить по дому в шубе и солнцезащитных очках. Намекала, потом прямо заявляла, что пожертвовала карьерой концертной пианистки. Когда ее спрашивали, ради кого, отказывалась отвечать и убавляла мощность термостата.
Муж удерживал ее эксцентричность на уровне шутки даже несмотря на то, что порой она злобно нападала на юных дочерей. Он разрешил ей стать в доме ребенком, и по-прежнему целовал ее до и после каждой трапезы.
Шелл любила его за то, как он обращался с матерью, и считала большой удачей, что выросла в этой атмосфере супружеской любви. Его терпение, его поцелуи были крошечными взносами в счет долга, который, как она знала, он не покроет никогда.
Вредным последствием этой невротической интерлюдии стало соперничество между Шелл и ее сестрой. Мать подгоняла и развивала его с безошибочным инстинктом, который позволяет людям, живущим под одной крышей, чувствовать боль друг друга.
– Не могу вспомнить, которой из вас больнее, – раздумывала она. – Хорошо, что вы не близняшки.
Каждое утро отец отвозил Шелл в школу. Это была его идея – отправить девочек в разные школы. Для них обоих это было чудесное время дня.
Она смотрела, как мимо проносится лес. Она знала, как он доволен тем, что она унаследовала его любовь к деревьям. Это было важнее ее собственного восторга – так она входила в женскую жизнь.
Отец очень осторожно водил машину. Должно быть, он не хотел оборачиваться, чтобы взглянуть на нее, ведь он вез такой ценный груз. Должно быть, он не вполне верил, что как-то связан с нею, она была так красива, и он, наверное, удивлялся, почему она верит тому, что он ей говорит. Когда ей исполнилось шестнадцать, он подарил ей ее собственную машину – подержанный «остин».
Школа была продолжением дома. Там было много деревьев и подстриженных кустов, много зданий, видавших виды или построенных так, чтобы казаться видавшими виды. Среди учеников впечатляло количество богатых наследников, и кто мог обвинить начальство в претенциозности, когда оно переодело новое здание для младших в колониальный фасад.
Программа обучения не была рассчитана на подготовку художников, революционеров или керамистов. Такая уолл-стритовская версия маленького красного школьного здания, где девочек обучали скорее украшать общество, чем сомневаться в нем или его ниспровергать.
Шелл была правильная. Она садилась на траву перед библиотекой с книгой и расправляла платье на коленях.
Платье, скажем, белое, книга – какие-нибудь бесконечные диалоги Айви Комптон-Бернетт[77], а волосы ее на этот раз, скажем, заплетены в косы.
Если ей хотелось о чем-нибудь подумать, она аккуратно опускала книгу и опиралась на руку; может быть, одним пальцем рассеянно листала страницы.