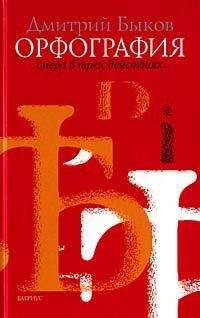Пальме нельзя не расти, в этом ее предназначение. Теплице нельзя не ограничивать ее роста: не будь в ней так тесно — не было бы и так тепло, и пальма бы ниоткуда в ней не выросла. Травке нельзя не тянуться за пальмой, — но приписывать этой травке какую-либо собственную волю и тягу к свободе могли лишь очень недалекие, люди, не чувствующие собственной истории. Даже неловко сегодня спорить с ними после того, как жизнь сама им все объяснила — я не люблю брать сторону жизни.
Сегодня дыра пробита, в теплице сквозит, стены ее шатаются. Дивиться ли, что формы русской государственности, какими они сложились в общих чертах еще при Петре, не выдержали напора! Возможно, теплицу стоило реформировать десять, двадцать, сто лет назад — но кто же в самом деле думал, что какая-то пальма пробьет потолок, казавшийся незыблемым! Великое пророчество нашего национального гения, лишь недавно открывшееся нам в подлинном своем виде, сбывается на глазах — одно только слово следовало бы в нем заменить: «Оковы тяжкие падут, теплицы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа…» Что ж — приняла. Вокруг описанный Гаршиным хмурый пейзаж петербургского утра: снежок просеивается на улицы, словно сквозь сито, и пьяный мастеровой с гармоникой бредет, не помня — откуда, не зная — куда. В Европе, на которую мы привыкли оглядываться, потому и не будет никогда ничего подобного, ее история потому и не знает бурных катаклизмов вот уже сто лет, со времени изгнания Наполеона, что демократия есть поистине безупречный механизм выращивания травки до уровня средней пальмы и принижения пальмы до роста крупной травки. Оттого лучшая европейская литература так напоминает в последнее время непомерно разросшуюся траву: но трава — все трава, хотя бы она и вымахала выше человеческого роста. Поразительно чутье Европы, которая уловила опасность революции, идущую от нового, умного поколения, — и тотчас бросила это поколение в войну, откуда оно выйдет и выбитым, и огрубелым. Люди, три года проведшие в окопах, далеко не способны к тем открытиям, прозрениям и бунтам, что люди, тридцать лет воспитываемые в теплице.
Что ж, спросит иной читатель, установление нового строя обережет нас от грядущих катаклизмов? Ведь пальмы будут вырублены под корень — после краха теплицы они никому не нужны? Осмелюсь успокоить этих мрачных пророков: демократия, пожалуй, и впрямь уберегла бы нас от возникновения новых национальных гениев, которым для роста потребны праздность, и неравенство. Но поскольку на воцарение демократии ничто в нынешней России не указывает, вся ее будущая история предстает нам таким же чередованием болезненно-бурных расцветов и нежданно-жданных катастроф: пусть расцветы будут потусклее — зато и катастрофы помельче.
Ничего удивительного, что новое государство (если о нем вообще позволительно говорить) начало с упрощений, а по сути, отмен — от Учредительного собрания до правил правописания. Обозначилась эта тенденция задолго до октябрьских событий — когда вместо утонченных, в Бердслеевом духе картин наши художники стали выставлять круги и квадраты. Иногда казалось, что иные наши пальмы и сами хотят уже стать травкой, чувствуя, что несколько занеслись в своем росте… да поздно.
А травка — что ж травка. Поживет еще и забудет пальму. Теплицу, конечно, восстановят, только будет она теперь попроще, поскудней. Никакого искусственного света — только дневной. Никакого круглосуточного обогрева — чтобы всякого рода Attalea Princeps не вымахивали выше среднего роста. В таком виде эта теплица может просуществовать еще многие десятилетия — единственное требование к нам, чтобы мы не вырастали выше положенного. Полагаю, в новых обстоятельствах, да еще с памятью о судьбе гордой соседки, нам нетрудно будет выполнить это условие. Но все теплицы и все пальмы кончают одинаково — вне зависимости от того, стоит ли теплица в Императорском ботаническом саду или делается собственностью восставшего народа».
Как и после сна, требовалось минут пять, чтобы прийти в обычное состояние, спокойно перечесть написанное, убрать повторы. Истина, казавшаяся новой и несомненной во время писания, выглядела теперь удручающей банальностью. Однако в целом он остался доволен — кое-какие случайные проговорки, когда пришлось отвлечься в сторону, обещали интересные варианты. Ять уложил листки в портфель и вышел из дому. Завтрака он себе давно не позволял.
19
Мироходов сидел все так же в своем крошечном, тесно заставленном кабинетике, в четвертом этаже высокого серого здания на Среднем проспекте, напротив давно закрытой пекарни, где, помнится, выпекали прелестные розанчики с разнообразными вареньями. Ять всегда улыбался, думая о «Нашем пути». В конце концов, не так много было на свете мест, где он не чувствовал себя чужаком.
«Наш путь» (бывшая «Воля народа», а еще до того «Наша речь») размещался в одной квартире, состоявшей из пяти комнат и просторной гостиной, где собирали сотрудников или угощали гостей по случаям юбилеев. Юбилей успели отпраздновать единожды — пятилетие в марте, — но отмечали тут и дни рождения любимых авторов, и попросту выпивали без повода, когда было настроение. В прихожей обычно сидел чрезвычайно представительный дядя Лева, открывавший посетителям и охранявший редакцию на случай погрома (однажды действительно пытались ворваться какие-то мелкие драчуны, после статьи самого Ятя против Пуришкевича, но дальше перебранки дело не пошло, расколотили только с улицы пару окон). Теперь многое изменилось. В ноябре пришлось поменять название (тогда единым махом позакрывали двадцать пять, кажется, газет, но все через неделю разрешили после переименования). Дяди Левы не было — уехал из Петрограда к родне в Харьков, где казалось ему сытнее, — и Мироходов сам открывал посетителям. Он жил в том же доме этажом выше, с женой и двумя дочерьми (одна на выданье, вторая развелась, вернулась к отцу и снабжала газету переводами). Ять любил и семью с ее безалаберным, но любовным бытом, и бородатого, бровастого, подвижного ее главу, умудрявшегося шестой год делать пристойную газету среди всеобщего визга и торгашества.
— Читали нового Арбузьева? — сразу спросил Мироходов, и приятно было уже то, что спрашивает он не о новом постановлении правительства, не об отсутствии электричества и не об урезании пайка. — Удивительно! Все, что он пишет, мне чуждо, и однако, сама искренность…
— Да, очень интересно, — с порога отозвался Ять. — Кто он такой — вы так и не узнали?
— Говорят, историк.
— Ну, нет, — Ять махнул рукой. — Не обманете. Я своего брата газетчика учую за версту. Ежели хотите, расскажу в деталях, что за человек. Есть вещи, которые всякий может написать, а тут голос так и слышишь. Я даже думал, не псевдоним ли, — но не пойму, с какой бы стати сильную вещь печатать под чужим именем. Гувер рядом с ним бледноват, а ведь Гувер серьезный малый.
— А что ж, в этом споре я за Гувера. Он дело говорит.
Публицист Гувер утверждал только самоочевидные вещи, соглашался с авторитетами и спорил исключительно с теми, кто не представлял для него опасности. Он и теперь стоял на позициях столь правоверных, что даже Ять, считавшийся консерватором, испытывал некоторую брезгливость при чтении гуверовских слюнобрызжущих инвектив. Будь воля Гувера, он вернул бы в Россию домострой, ввел полуустав и упразднил табак. Арбузьев наскакивал на него озорно и безжалостно, заносясь, впрочем, в противоположную крайность — у него получалось, что лучше большевики, чем охранители; Ять, как всегда, не соглашался с обоими, но арбузьевский молодой задор привлекал его. Только ради многомесячной полемики этих двоих стоило иногда покупать «Путь».
— Так разве в этом вопрос, Всеволод Ростиславович? — Ятю нравилось прокатывать во рту самое имя Мироходова, столь вызывающе русское и неподходящее, казалось бы, к его образу мыслей, но точно к нему прилаженное, ибо даже при малом росте он производил впечатление силы и укорененности в мире. — Разве вопрос в правоте? Нет сегодня никакой правоты, и завтра не будет. Я давеча про то и написал, что не осталось незамаранных, и те хороши, и эти, а стало быть, придут третьи. Теперь уж не о правоте речь, а о честности. И Арбузьев мне, как хотите, приятней: он подставляется, а Гувер кругом прав. Неувлекательно.
— Все бы вам увлекательности, а между тем гибель — вот она.
— Я правоты боюсь, Всеволод Ростиславович, — твердо проговорил Ять. — Правота всего страшней. Гувер знает, а Арбузьев сомневается. Потому-то Гувер и большевик побольше Арбузьева. Вот помяните мое слово, Арбузьеву скоро руки не будут подавать. Паче всего мы боимся не угодить своему брату либеральному интеллигенту. Воплощенной укоризною и все прочее.
— Вы свое-то принесли?
— Принес, — Ять расстегнул старый портфель, служивший ему талисманом, и извлек пять утренних листков.