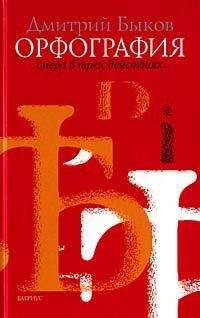— Все бы вам увлекательности, а между тем гибель — вот она.
— Я правоты боюсь, Всеволод Ростиславович, — твердо проговорил Ять. — Правота всего страшней. Гувер знает, а Арбузьев сомневается. Потому-то Гувер и большевик побольше Арбузьева. Вот помяните мое слово, Арбузьеву скоро руки не будут подавать. Паче всего мы боимся не угодить своему брату либеральному интеллигенту. Воплощенной укоризною и все прочее.
— Вы свое-то принесли?
— Принес, — Ять расстегнул старый портфель, служивший ему талисманом, и извлек пять утренних листков.
— Что же это вам Гаршин вспомнился? — глянув на название, спросил Мироходов. — Свежих впечатлений нет?
— Это самые свежие, свежей некуда.
Почитать, однако, Мироходову не пришлось. У него была обаятельная манера не прятать статью в ящик и даже не отдавать в набор сразу (что было лестно, а все-таки немного неприятно); он всегда прочитывал приносимое, пусть бегло, мигом выделял эффектную фразу, иронически или одобрительно произнося ее вслух; он и теперь поправил очки и пробежал уже начало, когда в редакционную дверь сначала позвонили, а потом, не довольствуясь звонком, принялись колотить.
— Обыск? — тихо спросил Ять.
— Не извольте беспокоиться, не извольте, — прокряхтел Мироходов, с удивительной невозмутимостью выбираясь из-за стола. — Дело самое привычное, это меня закрывать пришли.
— Так ведь уже закрывали.
— Да много ли газет осталось в Питере? Закрывать-то надо кого-то, вот и прилетел, голубок, по второму кругу…
Прилетевший голубок оказался высоким и страшно худым мужчиной с журавлиными, вывернутыми в стороны ногами, с черной бородой и огненными глазами, над которыми угрюмо нависал козырек картуза, отдаленно напоминавшего английское армейское кепи. С ним явились двое матросов и третий — явно темный, из самых настоящих, с желтым одутловатым лицом, замотанный в засаленное тряпье.
— Редактор «Нашего пути» Мироходов? — спросил голубок пронзительно-высоким голосом и гулко закашлялся. В кашле этом Ятю почувствовалось нечто картинное — привет, мол, из каземата.
— Точно так-с, — любезно сказал Мироходов, широко улыбаясь.
— Комиссар Минкин. От Единой комиссии по делам печати.
— Так я помню, помню! Вы же у меня в ноябре были! — еще любезнее расплылся Мироходов. — Я тогда требование ваше выполнил, все чин чином…
— Ваше направление не изменилось, — резко сказал Минкин. — Распоряжением Единой комиссии ваше издание закрывается.
— То есть как же оно может закрываться, голубчик?! — развел руками Мироходов. — Ему всего два месяца, и какое у нас направление? Мы, кроме афиш, и не печатаем ничего…
— Ваша газета не выражает точки зрения свободы, — крикнул Минкин, и матросы нахмурились. Темный все улыбался.
— Какая же у свободы может быть точка зрения? — поинтересовался Ять. — Я сотрудник газеты, так позвольте узнать, в каком духе…
— Я говорю с редактором! — взвизгнул комиссар. — Под прикрытием свободы вы протаскиваете угнетение. Свобода может быть одна — для победившего класса. Я опечатываю помещение.
— Голубчик, но у меня же мандат, — спокойно произнес Мироходов. И визг Минкина, и спокойствие редактора словно входили в условия не вполне понятной Ятю, но им обоим давно ясной игры. Мироходов уверенно извлек сложенный вчетверо грязный листок, на котором было вкось, в начальственной манере, без ятей и еров начертано:
«Мандат. Настоящим удостоверяется, что газета „Наш путь“ является провереной мною лично и может выходить в санкцыонированом мною порядке без чинения ей каких-либо препятствий со стороны других комиссий и подкомиссий. Председатель Петроградского комитета по делам культурной политики Грачев».
Минкин изучал этот документ долго и так сверлил глазами каждую букву, что Ять не удивился бы, увидев бумагу прожженной в нескольких местах. Поглощенный изучением листка, комиссар даже не сразу отогнал Ятя, заглянувшего ему через плечо.
— Я не знаю никаких Грачевых, и Грачев мне не указ, — произнес Минкин уже менее уверенно.
— Зато он вас очень хорошо знает, — улыбнулся Мироходов и извлек из жилетного кармана еще одну бумагу, не менее грязную и исписанную тем же почерком. Ее Ять из-за, плеча читать не стал, опасаясь гневить комиссара.
— Если вам еще удается наладить связи с отдельными слабохарактерными товарищами, это не значит, что ваша газета неприкосновенна, — с ненавистью сказал Минкин, возвращая листки. — Я проверю, что за Грачев.
— Ради Бога, — кивнул Мироходов, — чрезвычайно обяжете. Если будут сомнения, заходите, я всегда рад представителю победившего класса.
Минкин окинул его таким взглядом, что менее хладнокровный представитель побежденного класса на месте Мироходова растаял бы в воздухе — но редактор только скрестил руки на груди и стоял так, пока комиссар с матросами и темным, стуча сапогами, выходили на лестницу.
— А в самом деле, кто такой Грачев? — спросил Ять, когда грохот затих и хлопнула дверь внизу.
— А я почем знаю? — картинно удивился Мироходов. — Сегодня Грачев, завтра будет Лебедев… Я решил птичками подписываться, чтобы соблюсти систему.
— Дайте посмотреть, — попросил Ять. На втором листке тем же твердым почерком было начертано:
«т. Минкин! Прошу умерить революционную бдительность. Гр. Мироходов известен лично мне. У молодой республики достаточьно врагов, и вы лутше послужите ее делу, истребляя их а не борясь с сочуствующими. Пред. Петр. Ком. По дел. Культ. Грачев».
Ниже красовалась печать, в которой Ять с изумлением узнал печатку, которую он сам подарил мироходовской младшей дочери на двенадцатилетие. Печатка изображала мышь, склонившуюся над книгой.
— Сами писали? — спросил он.
— Почему сам?! — искренне возмутился Мироходов. — Метранпаж писал! Где ж мне взять такую роспись? Это же росчерк повелителя миров!
— И верят?
— Да чему же тут не верить, голубчик! — воскликнул Мироходов. — Я ее специально грязными пальцами захватывал, чтобы был настоящий документ! Они всякой бумажке верят. Вы думаете, Минкину хочется мою газету закрывать? Не читал он мою газету! Он и помещение реквизировать не хочет: не видно разве — борец, фанатик! Ему нравится ходить и власть употреблять. Образ власти для него теперь — любой текст, написанный на бумаге. А уж когда бумага адресована лично ему… воля ваша, устоять невозможно! Он ведь послезавтра опять придет.
— А вы?
— А я ему опять бумагу, опять с печатью.
— А если узнает, что нету никакого Грачева?
— Да как же он это узнает, ежели и комиссии никакой нет! — вознегодовал Мироходов на непонятливость собеседника, от которого вправе был ожидать все-таки большей сообразительности. — Не может же он знать все комиссии! Их сейчас знаете сколько — комитетов, подкомитетов? В иерархии черт ногу сломит. Но раз его знают — значит, вышестоящие. Признак вышестоящего — знать подчиненных. А почем он ведает, вдруг этот Грачев шишка, вдруг он за неповиновение попрет Минкина из комиссаров на германский фронт?
— Но рано или поздно это раскроется, — покачал головой Ять.
— Рано или поздно все это кончится, — Мироходов обвел рукой окружающее пространство и вернулся в кабинет.
— Знаете что, — смеясь, проговорил Ять. — Выпишите и мне такую бумажку! Если не пригодится при встрече с патрулем, я для истории сберегу.
— Да пожалуйста, — пожал плечами Мироходов. — Будете писать мемуары — не забудьте упомянуть, что это придумал редактор «Нашей речи», большой путаник, но человек приличный.
Он взял лист серой бумаги, задумался, потом решительно начертал несколько строк и вручил Ятю. На листке стояло:
"Справкой удыставерено, что предявитель сего совершенно благонадежен и мною лично на сей предмет досмотрен. Председатель Петр. Раб. Сов. По вопр. Пролет. Благонад. Павлинов».
Росчерк занимал всю нижнюю половину страницы и в самом деле напоминал распущенный хвост.
20
На Сенной перед Ятем в наибольшей полноте и яркости развернулось зрелище, которое он привык уже видеть в Петрограде с пятнадцатого года, с первых военных неудач: иное дело, что в конце последней осени процесс этот неимоверно ускорился. На всем необъятном рынке с его колеблющимися, притопывающими, дышащими паром рядами, как и по всей России, тоже колеблющейся и окутанной паром, шел обмен необязательного на необходимое, избыточного на насущное. То, что было духовным хлебом для сотен — хорошо, ежели тысяч, — менялось на хлеб как таковой, сырой и землистый. На Сенной деньги стоили мало; валютой служили картофель, коричневые кубики мыла, плоская серебристая вобла с ее невыносимым и все же аппетитным запахом (и в нем-то Ять видел воплощение главного противоречия своей нынешней жизни — смесь отвращения и жадности, с которыми ел, смотрел, прислушивался).