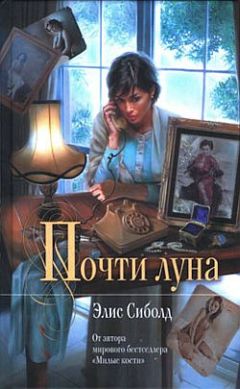— На что?
— На жизнь, Хелен. Ты слепа, если не видишь этого. Они связаны — они поддерживают друг друга.
На страницах передо мной было два изображения одной и той же женщины.
— «Маха одетая», — вслух прочла я. — «Маха обнаженная».
— Да. Гойя, — произнес мистер Форрест. — Разве они не прекрасны?
Я посмотрела на две картины бок о бок, затем поспешно захлопнула том.
— Мистер Уорнер сказал, все считают, что мы должны переехать.
В столешнице я заметила дырки — должно быть, сквозь них проходило железо, скреплявшее балки моста. Они были закрыты идеально подогнанными втулками из дерева более светлого цвета.
— А ты хочешь переехать?
— Не знаю.
Мгновение он молчал, затем предложил мне руку.
— Полагаю, тебе следует позволить мне научить тебя водить.
— На «ягуаре»?
— А что, есть и другие машины? Я не знал.
Я покраснела от счастья.
Я шла домой с фотографией матери в сорочке цвета небеленого полотна, которую должна была вернуть на место, и бессрочным приглашением заходить поиграть с Тошем. Но более всего меня занимала картинка, как я сижу за рулем машины мистера Форреста. На голове у меня яркий шарф, на носу большущие солнечные очки, и еще я почему-то курю.
Уже стемнело, а света в нижнем этаже нашего дома не было. Войдя, я увидела, что ванная рядом с кухней опустела, а радио и мамино вязанье валяются у нижних ступенек лестницы. Я поднялась в свою спальню и вынула пижаму из нижнего ящика комода.
Переоделась и спустилась, чтобы почистить зубы. Я подумала об обнаженных женщинах, спрятанных в доме мистера Форреста. Он забыл дать мне книгу для матери, и почему-то это обрадовало меня, словно я выиграла состязание, словно его преданность, хоть и косвенно, перешла на меня. В ванной я налила воды в свой розовый пластмассовый стакан и отнесла его к себе в комнату.
Вдруг послышался звон металлических жалюзи.
— Где ты шлялась? — спросила мать.
Она подошла ко второму окну, прямо над моей кроватью, и рывком закрыла жалюзи.
Я не ответила. Прошла мимо нее и села на старый стул в углу комнаты. На нем, как обычно, валялась гора не слишком чистой одежды, но спихивать ее я не стала, а взгромоздилась прямо на кучу и уставилась на мать.
— Серьезно, я очень волновалась, — сказала она.
Я промолчала.
Мать принялась расхаживать взад и вперед по плетеному коврику.
— Послушай, Хелен, ты же знаешь, как мне тяжело.
Молчание.
— Я не могла выйти к этим мужчинам. Я даже не была во дворе с тех пор, как, ну, сама знаешь, с тех пор как тот мальчик упал на дороге.
«Его сбила машина!» — заорала я мысленно.
— Где ты была?
Она смотрела на меня, наполовину обвиняя, наполовину умоляя. Ее руки дрожали и дергались, отгоняя некое чудовище, которого я не видела, некую призрачную сущность, что преследовала ее день за днем. В голове звучали слова мистера Форреста: «Психически нездорова».
— Наверное, ты была у Натали. По-твоему, я не чувствую, как от тебя несет выпивкой? Что ты сказала той женщине? Ты рассказала ей, что твоя полоумная мать скорчилась в ванной? Ты ничего не добьешься, если будешь порочить меня перед соседями и напиваться с Натали и ее желчной мамашей. Я не могу одна следить за домом. Ты знаешь, откуда родом мать Натали? Знаешь? С Юга, как и я, но она проделала известный трюк «Я переехала на Север и избавилась от акцента», как будто Юг — это помойка какая-то, с которой она сбежала. Да ты рехнулась, если считаешь, что мамаша твоей подружки Натали чем-то лучше меня.
Я видела себя, словно парила над собственным телом. Я встала со стула, а мать продолжила говорить, хотя я больше не слышала ее. Она размахивала руками еще сильнее, а мне хотелось одного: чтобы все прекратилось. Моя рука с розовым пластиковым стаканом дернулась, я очнулась и поняла, что сделала, лишь когда вода выплеснулась в лицо матери.
Я хотела рассказать ей, что меня ударили; хотела, чтобы она утешила меня. Хотела орать на нее и царапать ее лицо ногтями. Хотела, чтобы она была в здравом уме.
Она съежилась, а я завопила:
— Мистер Уорнер сообщил мне, что все соседи пришли к консенсусу: мы должны переехать!
И так же быстро, как встала, плюхнулась обратно на кучу снятой одежды.
Мать не пошевелилась, чтобы вытереть лицо. Она слабо улыбнулась мне и очень тихо сказала:
— Мистер Уорнер любит такие слова, как «консенсус». Он настоящий…
Я могла закончить за нее — просто игра в «чепуху» какая-то!
— Надутый осел.
Мать была благодарна, что я пригласила ее обратно на тот путь, по которому она шла. Вода капала с ее носа и губ. Лицо блестело в свете лампы.
— Один из мужчин ударил меня, мам.
Чем больше я говорила, тем больше чувствовала, как моя решимость, мое отделение, моя независимость покидают меня. Мать вновь завладевает мной.
Она слегка отвернулась от меня и уставилась в пол.
— Хелен…
— Да.
— Просто.
— Да.
— Просто у меня… Ты же понимаешь. Ты моя дочь. Я здесь чужая.
Она ковыряла пальцами ног край ковра. Движение было навязчивым и, казалось, совпадало с ритмом дрожи. Мать пыталась отыскать слова извинения, но сопротивлялась.
— Давай я расчешу тебе волосы, — предложила я. — Как папа.
Я встала, и мать закрыла лицо руками. Она смотрела на меня между пальцев.
— Я правда хочу, — сказала я. — Тебе понравится, потом мы обе ляжем спать, а утро вечера мудренее.
Чего я не сказала, так это того, что не собираюсь больше с ней говорить. Что утром встану рано и уйду из дома, чтобы не пришлось с ней встречаться. Что начну запасать еду, чтобы утверждать за ужином, будто я не голодна. Что получила от мистера Форреста подарок более ценный, чем любые уроки вождения или джин с тоником. Он назвал мою мать «психически нездоровой», и я, несмотря на то что отец никогда этого не делал, намерена была рассматривать сие как нашу истину.
Следующие несколько недель были оживленными. Когда отец вернулся, я рассказала ему, что случилось во дворе и что мистер Форрест пообещал научить меня водить. Мне не пришлось упоминать, что я не разговариваю с матерью, потому что именно этой новостью она встретила его у двери. Я знала только, что, не разговаривая с ней, я словно запасаю орехи или патроны. И становилась сильнее с каждым днем.
Мистер Форрест подъезжал в своем «ягуаре», давил на гудок, я хватала куртку и сбегала по лестнице. Иногда я замечала тень в гостиной, но от лестницы до передней двери было всего три гигантских скачка, и я предпочитала верить, что присутствие матери ослабевает с каждым новым моим спасением от нее. Снаружи ждали солнечный свет и ярко-зеленый автомобиль с ягуаром, привольно взметнувшимся в воздух.
Едва за мной закрывалась входная дверь, как до мистера Форреста и его машины оставалось всего двадцать бетонных ступенек. Я всегда боялась скользить по металлическим перилам, хоть и хотела очутиться на улице быстрее. Воображение рисовало мою расколотую голову на тротуаре и мать, которая не в состоянии спуститься туда, где я упала, и вызвать «скорую». Или даже хуже: как она заставляет себя дойти и топчется по моим мозгам и крови, задыхаясь и яростно жестикулируя.
Когда отец начал подыскивать дом в Фрейзере, Малверне и Паоли, он ездил один. Делал полароидные снимки комнат и дворов. Привозил их матери, и они раскладывали фотографии в столовой, создавая что-то вроде коллажей каждого дома, отделенных друг от друга темно-ореховым пространством обеденного стола.
Я возвращалась с уроков вождения мистера Форреста, и мы втроем окружали стол, внимательно глядя на то, что может стать нашим. Благодаря этому опыту отец и решил купить мне мою собственную камеру.
— Чтобы ты могла фотографировать одноклассников или концерты групп и приносить снимки матери.
— Я не хожу на концерты, — возразила я.
— Ладно. Ну, тогда то, куда ходишь.
Он слабо улыбнулся, и мне хватило ума промолчать. Не то я оказалась бы предательницей, ведь все указывало на то, что мать может никогда больше не выйти на улицу.
Но мне нравилось выбирать дом по фотографиям. По ночам мне снились спальни, летавшие в небе рядом с гаражом на одну машину — вишневый «ягуар» с настоящей деревянной инкрустацией на приборной панели.
Иногда я не понимала, кого она допрашивает: отца или дома.
— Модные деревянные панели, — говорила она, — но зеленый ковер ужасен. Что скажешь?
— Похоже на траву, — отвечал отец.
— Грязную траву, в лучшем случае.
И хотя наступала моя очередь говорить, я молчала.
Когда наконец настало время матери осмотреть три дома, прошедших проверку, планы строились почти неделю. Мать подбирала наряд и раскладывала его в свободной спальне, где ружья ее отца по-прежнему гордо красовались вдоль стены. Я решила, что найду безмолвный способ выразить матери свою поддержку, по-прежнему отказываясь с ней говорить.