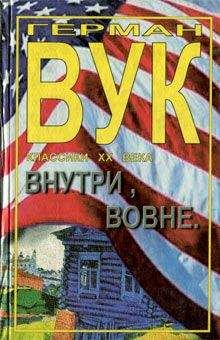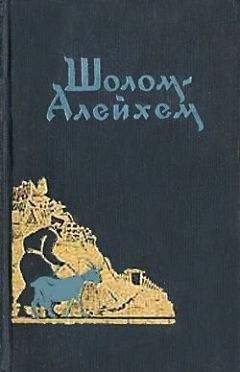Стало быть, жуткое франкенталевское откровение подтвердилось. Ку-ку-клан существовал. Про него даже сделали фильм. Теперь хришты уже были не смешными и жалкими существами из франкенталевских похабных песенок и анекдотов. Они стали Врагом. И отличаться от них, быть евреем было теперь уже не самым естественным состоянием в мире — теперь это означало быть объектом ненависти, добычей, за которой охотятся, притом без всякой видимой причины. Хотя первое потрясение со временем поутихло, все мое детство прошло под тенью страха перед Ку-ку-кланом. Во время президентских кампаний 1924 и 1928 годов вопрос о Ку-клукс-клане стал одним из пунктов предвыборной борьбы, и в эти годы газеты помогли мне понять, чем именно пугал нас Поль Франкенталь. Со временем я и мои друзья начали даже отпускать шутки насчет Ку-клукс-клана и антисемитизма. После того как в Германии пришел к власти Гитлер, я в своей юмористической колонке, которую в студенческие годы писал для нашей университетской газеты, придумал и напечатал, как мне казалось, очень смешной заголовок, который мне вовек не забыть:
«НАЦИСТЫ ПОБИЛИ ЕВРЕЕВ ПО ОЧКАМ;
СЧЕТ 21:19».
Понимаете, я был тогда недоросль, семнадцатилетний свободомыслящий гуманист, считавший себя умнее всех на свете. Я твердо знал, что горластый немецкий политик с усиками — это клоун, вроде Чарли Чаплина, и что на свете нет никакого Ку-клукс-клана.
А теперь — несколько слов о Розалинде Кац, а потом об обеде, на котором подавали морскую пищу. И на то и на другое упала тень Ку-клукс-клана.
* * *
Как бы мне рассказать вам о Розалинде так, чтобы возродить ее к жизни? Описать маленькую черную челку, козырьком нависавшую надо лбом? Ее изящные платьица, ее тонкие розовато-белые ноги и руки, ее сверкающие карие глаза, ее тихую загадочную улыбку? Как описать состояние влюбленности в девочку задолго до ее полового созревания — задолго до того, как у нее округлились груди и она стала покачивать бедрами, до того, как у нее стало пульсировать то и затвердело это, если верить романам, написанным эмансипированными домохозяйками?
Что же до франкенталевской зеленовато-белой мерзости, то к моему увлечению Розалиндой это не имело ни малейшего отношения. Я даже никогда эти две вещи не связывал друг с другом. О том, чтобы залезть к Розалинде под платье, я думал не больше, чем о том, чтобы пырнуть ее ножом. Она казалась мне сплошным совершенством. Она была для меня почти священна. Розалинда Кац стала первым существом женского пола, меня обворожившим. Розалинда — эта маленькая брюнетка в белой блузке и клетчатой юбке, взявшая меня за руку во время прогулки в майский день в начале двадцатых годов, когда не только я, но и весь мир был еще невинен, — Розалинда в своей девственной чистоте воплощала для меня все, чему мужчина поклоняется в женщине.
В этот майский день класс 1-Б, возглавляемый нашей большеносой учительницей миссис Краус, шествовал парами, взявшись за руки, через большой луг поблизости от государственной школы № 48. Миссис Краус объясняла нам что-то про дикие цветы, которые росли на лугу, про кузнечиков, про бабочек, про деревья, и целый час я держал за руку Розалинду Кац, а ведь до того я чуть ли не год молча обожал ее и думал о том, как бы к ней подойти, взглянуть на нее, поймать ее взгляд и обменяться с ней робкими улыбками. После того как я целый час держал ее за руку, я ощущал, по-видимому, все, что может ощущать взрослый мужчина по отношению к женщине. В течение всей этой прогулки от руки Розалинды к моей словно передавались какие-то токи. В этот золотой час ее рука была какой угодно, но только не вялой и не пассивной. А когда прогулка кончилась, Розалинда шепотом согласилась после школы пойти погулять со мной по поместью Дикки-Истэйт.
Это поместье было какой-то аномалией. Большой белый фермерский дом стоял на вершине холма, окруженный чудесным парком, неподалеку от школы № 48. Вся эта часть Бронкса в свое время находилась за городом, и тогда здесь было множество больших ферм, но потом, когда сюда вторглась надземка, грохочущая над Уэстчестер-авеню и Южным бульваром, сельская местность исчезла: ее застроили бесконечными кварталами многоквартирных жилых домов. То тут, то там все еще стояли опустевшие фермерские дома, многие из них превратились в развалины, где пахло испражнениями; для нас это были «дома с привидениями», куда никто из нас — даже Поль Франкенталь — не решился бы войти никогда, кроме как в яркий солнечный день. Но поместье Дикки-Истэйт сохранилось в хорошем состоянии, и там устроили детский дом для сирот-хриштов, так нам разъяснили, и детям из школы № 48 строго-настрого запрещалось туда ходить. Большинство и не ходили, но я отваживался нарушать этот запрет. Мне нравилось бродить там в одиночестве среди буйной зелени. Ходили легенды, что в стенах здания и в стволах деревьев там можно до сих пор найти пули, оставшиеся еще от Войны за независимость; вот под таким-то предлогом — чтобы поискать пули — я и пригласил Розалинду Кац в этот запретный заповедник.
Эта прогулка обещала стать самым сладостным событием моей жизни. Вот я оказался в цветущем парке, в ясный майский день, наедине с Розалиндой Кац. Я подавал ей руку, чтобы она могла карабкаться по скалам, иногда я даже поддерживал ее за талию, даже когда в этом не было нужды. Она не возражала. То и дело, когда она прыгала с камня на камень или карабкалась по зеленому склону, мне на миг открывался краешек белых трусиков, ослепляя меня пуще солнца. После того как Розалинда целый год держалась от меня подальше, она оказалась резвым чертенком.
Как я уже сказал, эта прогулка обещала быть райским блаженством, и она им стала, стала! Но в этом раю скрывался коварный змей, и он-то и напомнил мне о Ку-ку-клане. Афиша кинотеатра на Южном бульваре тогда была еще очень свежа в моей памяти. Цитадель хриштов, в которую я вторгся впервые после того, как увидел изображение ку-ку-клановцев, выглядела для меня теперь по-новому, зловеще. Не ожидала ли меня здесь, в Дикки-Истэйт, ку-ку-клановская засада? Не был ли этот «детский дом» на вершине холма на самом деле полон убийц в белых балахонах и остроконечных капюшонах? Такие мрачные мысли отравляли мою идиллическую прогулку с Розалиндой.
И не напрасно! Неожиданно сквозь кусты прямо на нас выскочили три высоченных хришта. Один из них гаркнул на нас, точно Великан из сказки:
— КАКОГО ЧЕРТА ВЫ ТУТ ДЕЛАЕТЕ?!
И хуже того — если что-то могло быть хуже — было то, что они стояли над нами на склоне холма, трое здоровенных верзил в неопрятной одежде. Снизу они казались нам ростом в добрых пятнадцать футов.
— ВЫ ЧТО, ИЗ СОРОК ВОСЬМОЙ ШКОЛЫ? — заревел второй из них.
Мы с Розалиндой прижались друг к другу, и у нас язык отнялся от страха.
— Г… г… где это? — пробормотал я.
Должно быть, этот вопрос подсказало мне присутствие духа, унаследованное от моих предков из гетто: подобно «порушу», я задал отвлекающий, вводящий в заблуждение вопрос.
Однако бедняжка Розалинда уступила.
— Да, мы из сорок восьмой, — сказала она тоненьким жалостным голоском. — Но мы не знали, что нам нельзя сюда ходить. Это вот он меня сюда привел, — добавила она, уставив на меня маленький розовый пальчик, хотя вокруг не было больше никого, на кого бы еще можно было показать.
— А ну, пошли с нами! — приказал третий, у которого было ужасно красное лицо.
Пока мы шли к белому зданию, эти трое мужчин говорили о том, что Дикки-Истэйт постоянно наводняют ученики из сорок восьмой школы, которые рвут цветы, топчут клумбы, ломают ветки на деревьях, и что надо бы пожаловаться нашему директору — толсторожему страшилищу по имени мистер Блюм. Для меня, с моим тогдашним первоклассным интеллектом, подвергнуться допросу у мистера Блюма было почти то же самое, что сесть на электрический стул; но и это было не так страшно, как попасть в лапы этих ужасных хриш-тов. Я мысленно утешал себя тем, что они пока еще не спросили нас, евреи ли мы, и что на них — по крайней мере сейчас — нет ни белых балахонов, ни остроконечных капюшонов.
В белом здании мы увидели толпу детей: значит, это действительно был детский дом. И повсюду очень странно пахло незнакомой пищей. То, что там готовили на обед, как видно, никогда не готовили ни у нас, ни у Франкенталей, ни у кого-либо другого на Олдэс-стрит, и ни у кого из нашей «мишпухи». Это была пища хриштов. Трое хриштов, приведших нас, вошли в какой-то кабинет, оставив нас трястись в коридоре и нюхать эти чуждые запахи, а мимо взад и вперед проходили детдомовцы, бросая на нас любопытные взгляды. Затем из кабинета пулей выскочил мужчина, одетый во все черное, с узким белым воротничком вокруг шеи и без галстука. На фуди у него на цепочке висел КРЕСТ — не пылающий, правда, но КРЕСТ. Вот ОНО!
— Вам не разрешается приходить в Дикки-Истэйт; вы это знаете? — спросил он грозно.