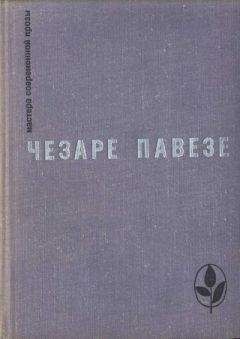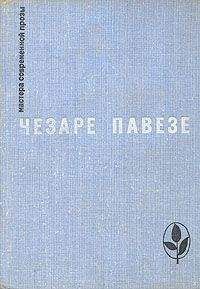— Как я промерзла сегодня утром.
— Ты все еще лечишься? — спросила Джиния.
— А что? Я изменилась?
— Не знаю, — сказала Джиния.
Амелия попросила закурить: на столе лежала пачка сигарет.
— Я тоже курю, — сказала Джиния.
Когда они закуривали, Амелия сказала:
— Ну, ты отошла?
Джиния залилась краской и ничего не ответила. Амелия, глядя на свою сигарету, сказала:
— Я так и думала.
— Ты оттуда? — пролепетала Джиния.
— Не важно, — ответила Амелия. — Хочешь, пойдем в кино?
Докуривая сигарету, Амелия со смехом сказала:
— Ты произвела впечатление на Родригеса. Он спрашивал, нравишься ли ты мне. Теперь Гвидо ревнует к нему.
Джиния попыталась улыбнуться, а Амелия продолжала:
— Слава богу, к весне я буду здорова. Врач говорит, что вовремя взялся за меня. Послушай, Джиния, в кино не идет ничего хорошего.
— Пойдем куда хочешь, — сказала Джиния, — веди меня.
ДЬЯВОЛ НА ХОЛМАХ
ПОВЕСТЬ
© Перевод Н. Наумов
I
Мы были тогда очень молоды. В тот год я, кажется, никогда не спал. Но был у меня товарищ, который спал еще меньше, чем я, и случалось, рано утром, когда прибывают и отправляются первые поезда, он уже прогуливался перед станцией. Это значило, что после того, как мы поздней ночью расстались с ним у подъезда его дома, Пьеретто побродил еще и уже на рассвете выпил где-нибудь кофе. А теперь он разглядывал заспанные лица метельщиков и велосипедистов. Он даже не помнил о наших ночных разговорах — пока он шатался, они выветрились у него из головы, и спокойно говорил: «Поздно уже. Пойду спать».
Если за нашей компанией увязывался еще кто-нибудь из ребят, он понять не мог, что мы собираемся делать в такое время, когда кино уже кончилось, остерии закрылись, улицы опустели и все смолкло. Он сидел с нами тремя на скамейке, слушал, как мы переговариваемся или зубоскалим, загорался, когда нам приходило в голову пойти будить девушек или встречать восход на холмах, а когда мы отказывались от этой затеи, сникал и, помешкав, уходил домой. На следующий день он нас спрашивал: «Что же вы делали?» Ответить ему было нелегко. Мы послушали пьяного, посмотрели, как расклеивают афиши, обошли базарную площадь, видели прогуливающихся проституток. Тогда Пьеретто говорил: «Мы познакомились с одной женщиной».
Парень не верил, но, оторопев, слушал с раскрытым ртом.
— Тут нужна настойчивость, — говорил Пьеретто. — Прогуливаешься взад и вперед под балконом. Всю ночь. Она это знает, замечает. Не важно, что ты с ней не знаком, такие вещи нутром чувствуешь. И вот она не выдерживает, соскакивает с кровати и распахивает ставни. Ты приставляешь лестницу…
Но между собой мы не любили разговаривать о женщинах. Во всяком случае, всерьез. Ни Пьеретто, ни Орест не откровенничали со мной. Поэтому они мне и нравились. Черед женщин, тех, что разлучают друзей, видно, еще не пришел. А пока мы разговаривали о том, о сем, обо всем на свете, и до того нам это нравилось, что не хотелось тратить время на сон.
Однажды ночью мы сидели на скамейке на берегу По. Орест проговорил:
— Пойдемте спать.
— Прикорни здесь, — сказали мы ему. — Лето ведь, пользуйся. Не можешь, что ли, спать вполглаза?
Орест, прижавшись щекой к спинке скамейки, искоса посмотрел на нас.
Я говорил о том, что в городе никогда не следовало бы спать: «Всегда огни горят, всегда светло, как днем. Надо бы и по ночам что-нибудь делать».
— Все дело в том, что вы еще мальчишки, — сказал Пьеретто. — Оттого и угомониться не можете.
— А ты-то кто? — сказал я. — Старик, что ли?
Орест вдруг вскинулся:
— Старики, говорят, никогда не спят. Мы шатаемся по ночам. Интересно знать, кто же спит.
Пьеретто посмеивался.
— Ты что? — спросил я, насторожившись.
— Чтобы спать, надо сперва побаловаться с женщиной, — сказал Пьеретто. — Вот почему старики не спят и вы не спите.
— Может быть, — пробормотал Орест, — но все равно у меня слипаются глаза.
— Ты не городской, — сказал Пьеретто. — Для таких людей, как ты, ночь еще имеет смысл — тот же самый, что в былые времена. Ты вроде дворняжки или курицы.
Был уже третий час.
Холм по ту сторону По искрился, словно усыпанный блестками. Было прохладно, пожалуй, даже холодно.
Мы поднялись и пошли назад, к центру. Я думал о том, какой ловкач Пьеретто: себя поддеть не даст, а нас всегда выставляет лопухами. Ни я, ни Орест, к примеру, не томились бессонницей из-за женщин. В который раз я спросил себя, какую жизнь вел Пьеретто до того, как приехал в Турин.
На скамейках у привокзального газона, под чахлыми деревцами, спали с открытым ртом два оборванца. Без пиджаков, курчавые, с черными бородами, они были похожи на цыган. Неподалеку находились уборные, и, несмотря, на ночную свежесть и разлитый в воздухе запах лета, здесь стояла вонь, точно напоминание о длинном солнечном дне, сутолоке и шуме, о пыли и поте, выщербленном асфальте, беспокойной толпе. Под вечер на этих скамейках у газона — жалкого оазиса в сердце Турина — всегда сидят невзрачные женщины, бобыли, лоточники, горемыки. Чего они ждут? Пьеретто говорил, что они ждут чего-то необыкновенного — землетрясения, от которого рухнет город, светопреставления. Иногда летняя гроза разгоняет их и все омывает.
Два оборванца спали как убитые. На безлюдной площади какая-то светящаяся вывеска еще взывала к пустому небу, бросая отблески на их лица.
— Вот разумные люди. Надо взять с них пример, — сказал Орест и было двинулся домой.
— Пойдем с нами, — сказал Пьеретто. — Дома тебя никто не ждет.
— Ну и там, куда вы идете, меня тоже никто не ждет, — сказал Орест, но остался.
Мы свернули к новой галерее.
— Этим парням можно позавидовать, — сказал я тихо. — Должно быть, хорошо проснуться на площади при первых лучах солнца.
Пьеретто ничего не ответил.
— Куда мы идем? — сказал я, останавливаясь.
Пьеретто прошел еще несколько шагов и тоже остановился.
— Я бы не прочь куда-нибудь зайти, но везде закрыто, — сказал я. — Хотел бы я знать, на что нужна вся эта иллюминация.
Пьеретто не ответил по своему обыкновению: «А ты на что нужен?», а проговорил:
— Хочешь, пойдем на холм?
— Далеко, — сказал я.
— Далеко, но зато как там пахнет, — сказал он.
Мы снова спустились по проспекту; на мосту мне стало холодно; потом быстрым шагом, чтобы поскорее оставить позади привычные места, мы стали подниматься по склону. Было сыро, темно, луна не показывалась; в воздухе мелькали светляки. Немного погодя мы замедлили шаг, запыхавшись. На ходу мы с Пьеретто говорили о себе; говорили с жаром и втягивали в разговор Ореста, вспоминали, как ходили по этим дорогам, разгоряченные вином или спором. Но все это не имело значения, все это было только поводом для того, чтобы идти, подниматься, мерить шагами холм. Мы шли мимо полей, оград, решеток вилл, вдыхали запах асфальта и леса.
— По-моему, пахнет так же, как от цветка в вазе, никакой разницы, — сказал Пьеретто.
Как ни странно, мы до сих пор никогда не поднимались на вершину холма, по крайней мере по этой дороге. Где-то должен был быть перевал, высшая точка косогора, откуда, как я себе представлял, взору, словно с балкона, открывается внешний мир — раскинувшиеся внизу равнины. С других точек холма, из Суперги, из Пино, мы днем уже смотрели на окрестности. Орест показывал нам пальцем на темнеющие вдали, за морем крутогоров, лесистые урочища — его родные места.
— Поздно очень, — сказал Орест. — Когда-то здесь было полно всяких заведений.
— В какое-то время они закрываются, — сказал Пьеретто. — Но те, кто уже там, кутят до утра.
— Подумаешь, — сказал я, — стоит подниматься летом на холм, чтобы развлекаться за закрытыми ставнями и дверьми.
— Там, наверное, есть сад, лужайки, — сказал Орест. — Спят, должно быть, в парке.
— Где-то и парки кончаются, — сказал я. — Начинаются леса и виноградники.
Орест что-то проворчал. Я сказал Пьеретто:
— Ты не знаешь сельской местности. Бродишь ночи напролет, а сельской местности не знаешь.
Пьеретто не ответил. Время от времени где-то лаяла собака.
— Хватит, дальше не пойдем, — сказал Орест на повороте дороги.
Пьеретто вышел из задумчивости.
— Тем более, — поспешно сказал он, — что зайцы и змеи притаились — боятся прохожих, а пахнет здесь бензином. Где теперь та сельская местность, которая вам по душе?
Он с ожесточением набросился на меня.
— Неужели ты думаешь, — произнес он безапелляционным тоном, — что, если кого-нибудь зарежут в лесу, все будет как в сказке? Как бы не так, и сверчки вокруг мертвого не умолкнут, и озеро крови будет не больше плевка.
Орест с отвращением сплюнул. Потом сказал:
— Осторожно, машина.