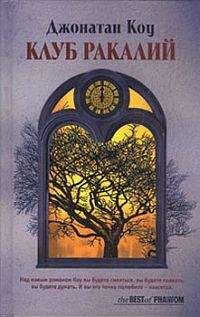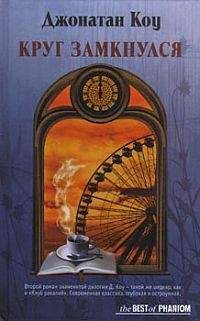Ни один из этих эпитетов, увы, нельзя было отнести к двум датским подросткам, жившим в Геммел-Скагене по соседству с нами.
Эти двое, Юрген и Стефан, делили маленький дом с пожилой четой, которую мы сочли их дедом и бабкой. Стефану было, по моим представлениям, лет пятнадцать, а Юргену — года, возможно, на два-три больше. Нас они, казалось, невзлюбили с самого начала, а если не всех нас, то уж Бауманов точно; а еще точнее, если не всех Бауманов, то уж определенно Рольфа, которого оба дразнили, поддевали и задирали при всякой возможности.
Рольф был мальчиком крепким, но неловким и неповоротливым. Как и все Бауманы, он прекрасно говорил по-английски и в эти каникулы, к немалому моему удивлению, быстро и накрепко подружился с Полом, который сходился с людьми отнюдь не легко. Они устраивали заплывы на скорость, бегали наперегонки по пляжу, уезжали вдвоем на долгие велосипедные прогулки и без устали гоняли по задней лужайке футбольный мяч. Вот в разгар одной такой игры (я сидел, читая, в кресле у окна гостиной) Юрген со Стефаном впервые с ними и заговорили.
— Эй! Немчура! — окликнул их Юрген. — Это наш двор. Кто вам позволил играть в ваш дурацкий футбол на нашей лужайке?
Рольф молчал и лишь с опаской взирал на двух рослых датчан.
Ответил им Пол:
— Я не немец, я англичанин. И это двор не только вашего дома, но и нашего тоже.
— Но друг-то твой немец, так? Он здорово смахивает на tygge Tyske. (Что означает, по моим догадкам, «жирный немец».)
— Его имя Рольф, — ответил мой брат, — а мое — Пол. И бьюсь об заклад, что за два периода по десять минут каждый мы обдерем вас со счетом шесть-ноль.
Ситуацию Пол, таким образом, разрядил, и вскоре все четверо уже яро сражались в футбол. Слишком яро, быть может. Насколько мне было видно и слышно, любой забитый гол ожесточенно оспаривался пропустившей командой, да и вообще каждую минуту-другую возникали громкие перебранки. Датчане играли напористо, набрасываясь на Рольфа всякий раз, как он завладевал мячом, и нередко блокируя его так жестко, что он летел на землю. Позже я слышал, как он с обидой рассказывает матери, что они ему все голени ободрали.
— Не нравятся мне эти ребята, — еще раз пожаловался он, когда поздно вечером все мы уселись на огромной семейной кухне обедать. — Уж больно они грубые и жестокие.
— Обыграть-то мы их все-таки обыграли, — похвастался Пол. — Выдающаяся победа англогерманского союза.
— А ты с ними не играл, Бенжамен? — спросил Гюнтер, протягивая мне блюдо с сыром и ветчиной.
— Мой брат не игрок, — сообщил Пол. — Он эстет. Он так и просидел с полудня у окна, слабоумно улыбаясь. Не иначе как симфоническую поэму сочинял.
— Вот как? — удивился Гюнтер. — Я знал, что ты собираешься стать писателем, Бенжамен. Так ты еще и музыку пишешь?
— В общем-то, нет, — ответил я, посылая Полу негодующий взгляд. — Просто люблю сочинять иногда мелодии, навеянные каким-нибудь человеком или местом.
— Ну-ну. — На Гюнтера услышанное, похоже, произвело немалое впечатление. — Так, может, сочинишь что-нибудь, навеянное моими прекрасными дочурками?
Я взглянул через стол на Кошмарную Парочку, как мы с Полом окрестили между собой двойняшек, и не смог представить себе чего-нибудь в большей мере невероятного.
— Не исключено, — пробормотал я.
— Как машина, Гюнтер? — спросил отец, меняя, огромное ему спасибо, тему разговора.
— О, совсем неплохо. Пустячная царапина. Вернемся домой, все легко поправим.
В тот день, несколько раньше, Лиза ухитрилась повредить их машину — большой семейный БМВ, — отправившись с дочерьми в скагенский супермаркет. Поворотила куда не следовало, выехала не с той стороны на улицу с односторонним движением и попыталась развернуться, что закончилось совсем уж плачевно. Машину заклинило между бордюрами, поперек узкой проезжей части, и какому-то немецкому отпускнику пришлось выручать Лизу, совершив разворот своими силами. Мы уже начали понимать, что с Лизой подобные неприятности случаются часто. Прошлым вечером она, моя посуду, расколотила две тарелки, и я слышал, как мама громко заметила: «Можно подумать, будто она впервые попала на кухню». Подругами, понял я, двум этим женщинам стать не суждено.
* * *
Датских подростков отличала некая необузданность, неуправляемость, это было нам ясно; неуравновешенность и склонность (во всяком случае, Юргена) к неспровоцированному насилию. Их дед и бабка — которых они называли Мормор и Морфар — были с нами неизменно вежливы и дружелюбны, но всякая наша попытка поиграть с Юргеном и Стефаном неизменно кончалась дракой и телесными повреждениями, причем жертвой становился, как правило, Рольф. Если они не набрасывались на него с кулаками, не пинали ногами, так осыпали бранью.
— Эй, немец, — как-то при мне окликнул его на пляже Юрген, — что делал твой отец во время войны? Небось в нацистах состоял?
— Не говори ерунды, — ответил Рольф. — Во время войны отец был ребенком.
— Готов поспорить, будь он постарше, подался бы в гестапо, — сказал Юрген.
А брат его прибавил:
— Ага, точь-в-точь как Бернгард.
Всем нам было невдомек, что это может означать, меня же поражали терпение и покладистость, с которыми Рольф сносил их оскорбления. Мне начинало казаться, что чем пуще они его задирают, тем с большей страстностью ищет он дружбы этих датских мальчиков, старается добиться их одобрения.
Как-то после полудня Рольф остался с матерью и сестрами дома, а мы, все прочие, покатили на велосипедах к Гренену, северной оконечности полуострова. Нам говорили, что в этом месте встречаются два моря, Каттегат и Скагеррак, однако я и вообразить не мог, какое удивительное зрелище ожидает нас там. Мы неторопливо шли берегом к самому краешку Дании, солнце сияло, море отливало захватывающей дух синевой. Впрочем, мне следовало бы сказать «океан», ибо там, где тропа наша завершилась пустым песчаным простором, мы увидели два ряда накатывающих друг на друга бурунов; они, от первого и до последнего, не различались ничем — казалось, будто по прозрачной воде провели две борозды, сходящиеся, волна за волной, в пенистом, невозбранном соитии. Зрелище было настолько упоительным и странным, что всех нас так и подмывало захохотать во все горло. Впрочем, гид, подвезший нас (в странном гибридном экипаже — железнодорожном вагоне на тракторной тяге) назад, к автостоянке, уверял, что шутить в этом месте с водой отнюдь не рекомендуется. Во всей Ютландии, сказал он, нет более опасного для купания места, многие уже пытались проплыть между двумя морями и каждый раз это заканчивалось бедой.
Когда мы вернулись в дом, смятение, в нем царившее, вполне могло навести на мысль, что как раз здесь-то беда и разразилась: Лиза, Ульрика, Урсула и Рольф — все были в слезах, хоть зримая причина для них имелась лишь у последнего — в виде здоровенного синяка под глазом. Мы догадались, мгновенно и верно, что глаз ему подбил Юрген. Отец Рольфа, выслушав рассказ сына — довольно путаный, что-то такое о выстроенных в ряд пивных бутылках, швырянии камней на меткость и сложных правилах, нарушенных кем-то из соревнующихся, — довольно долго просидел, мрачно раздумывая, на кухне. Потом поднялся и объявил: «Мне жаль, однако эта нелепая история начинает портить нам отдых» — и ушел к соседям, поговорить с дедом и бабкой мальчиков.
Разговор их имел два непосредственных результата. Вечером к нам заглянули Юрген со Стефаном, оба извинились перед Рольфом и обменялись с ним рукопожатиями — жест, по какой-то причине вызвавший у двойняшек новый приступ плача, однако всех прочих, по-видимому, удовлетворивший. Куда более неожиданным было то, что Рольф, Пол и я получили приглашение прийти завтра под вечер к соседям на чай. Нам было сказано, что Марии (так, оказывается, звали бабушку) особенно хочется поговорить именно с нами.
Мы пришли туда в назначенный час, в четыре.
В домах, где живут старики, нередко стоит запах совсем особый. Я говорю не о какой-либо нечистоте, но о том, что в домах этих пахнет воспоминаниями — дверьми, которые оставались закрытыми очень долгое время, тягостной ностальгической замкнутостью, иногда гнетущей и сковывающей. Здесь все оказалось иначе. Комнаты были опрятны, полны воздуха и света от искрящегося океана. В гостиную света вливалось столько, что пришлось, когда мы расселись по софам и креслам, немного приспустить жалюзи. Мебель, изящная и ничуть не поблекшая, казалась, однако ж, старинной в сравнении с той, что стояла в нашем пляжном доме, — приземистой, угловатой, современной.
Мария была женщиной крошечной, но сильной, на лице ее — когда-то, думаю, очень красивом — столько раз оставляли свои небрежные росчерки ветер и солнце Скагена, что оно обратилось в сложный манускрипт, в палимпсест морщин и заостренных складок. Она угостила нас непривычными открытыми бутербродами, за которыми последовали сытные, вязкие печенья, и, когда я попросил к поданному ею ромашковому чаю молока, она улыбнулась и сказала, что молоко-то найдется, однако этот чай с ним обычно не пьют. Пол, с видом превосходства, усмехнулся. Супруг Марии, Юлиус, был человеком очень высоким, очень смуглым и очень одышливым; он сидел, опершись на трость, в кресле с прямой спинкой и за весь вечер не произнес ни слова, лишь следил за каждым движением жены полными неколебимого обожания глазами.