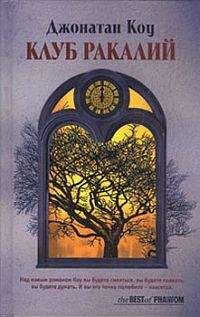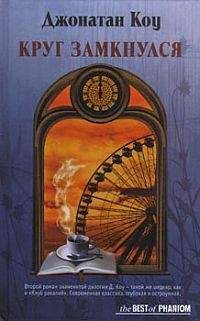— Послушай, любимая, ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь, правда?
Лоис не ответила. Просто смотрела на него во все глаза.
— Я люблю тебя, — сказал Малкольм. — Безумно. — Он вздохнул — долго, протяжно. — Мне нужно сказать тебе кое-что. Кое о чем спросить, — Он взял ладонь Лоис, с силой сжал ее. Словно не хотел больше выпускать, никогда. — Знаешь о чем?
Разумеется, она знала. И разумеется, Малкольм знал, какой ответ услышит. В эту минуту каждый из них понимал другого до донышка. Они были так близки друг другу, так близки к счастью, как это только возможно для двоих. И потому вопроса своего Малкольм так и не задал.
А потом, ровно в восемь двадцать, сработал, приведя в действие пусковик, временной механизм, аккумулятор послал по проводам электрический ток и на другом конце паба взорвались тридцать фунтов гелигнита.[15]
Вот этим все и закончилось — для Цыпочки и Волосатика.
…Ярчайшим из моих воспоминаний оказывается увиденный нами свет, это небо живописцев, серо-голубое, точно глаза Марии и ее внуков, небо цвета никогда не утихающей боли…
Временами мне кажется — где бы что важное ни происходило, я неизменно торчу за кулисами. Словно Бог обратил меня в жертву смешного розыгрыша, наделив в жизни ролью, не многим отличающейся от роли без слов. Иногда же кажется, будто роль моя состоит просто в том, чтобы оставаться зрителем на представлении, в котором разыгрываются жизни других людей, зрителем, вечно убредающим куда-то в самый важный момент — уходящим на кухню за чашкой чая как раз в начале dénouement.[16]
Тут следует сказать, что все это — попытка объясниться, что я начинаю рассказывать историю, не зная ее окончания. Вернее, один вариант окончания у меня имеется, но это всего лишь вариант Пола, а Пол предпочитает секретов своих не раскрывать. И все же рассказать ее стоит, и потому я передам вам хотя бы то, что известно мне самому.
Все началось в июле 1976-го, когда мой отец вошел как-то вечером в гостиную, где все мы смотрели телевизор, и сообщил потрясающую новость: летние каникулы этого года мы сможем провести в Дании.
Вообще-то слово «потрясающая» не из тех, которыми я бросаюсь с легкостью, но предложение отца было и вправду отмечено дерзким, беспрецедентным разрывом с семейной традицией. Сколько я себя помню, мы каждое лето отправлялись на отдых в одно и то же место — на полуостров Ллин в Северном Уэльсе. Ставили наш жилой автоприцеп на прометенном ветром поле, среди папоротников и овец, и приготовлялись к трехнедельной борьбе со стихиями, ибо за появлением нашим неизменно следовал сезон свирепых ветров и беспощадных дождей. (Кстати, еще одно ироничное обстоятельство из тех, которыми, как я подозреваю, и должна пестреть всякая жизнь, состоит в том, что именно лето, которое мы предпочли провести вне Уэльса, оказалось самым жарким на нашей памяти.) Похоже, в тот год все было обречено складываться по-особому. Итак, отец только что разговаривал по телефону с другом из Германии, Гюнтером Бауманом, и тот сделал щедрое предложение: не захотим ли мы провести вместе с его семьей две недели в доме, который они сняли на лето в Скагене, на самой северной оконечности Дании?
Пять минут спустя отец перезвонил в Мюнхен и с воодушевлением это предложение принял.
* * *
Герр Бауман представлял собой, можно сказать, немецкую версию моего отца. Он ведал кадрами на заводе «БМВ» и за последние два года обменялся с отцом несколькими рабочими визитами, которые позволили им сравнить методы их работы и поделиться соображениями о сложностях отношений между предпринимателями и рабочими. Непринужденное, благотворное для обоих приятельство со временем переросло в дружбу. Мама, брат и я несколько раз встречались с нашим немецким «дядюшкой» и считали, что знаем его достаточно близко, чтобы называть просто Гюнтером.
Впрочем, никого из членов его семьи мы не знали и впервые увидели, лишь притормозив в тот теплый августовский день у дома в Геммел-Скагене. В Ольборг мы прилетели с пересадкой в Копенгагене, отец взял напрокат машину, в ней мы и покатили по местности, казавшейся сразу и чужой, и странно знакомой: неяркая, непритязательная прелесть ее напоминала мне о родной стране, и все же, пока мы продвигались на север, в этих низких голубых небесах и широких пространствах поросшего травой песка все сильнее ощущался намек на что-то более вольное и просторное. Почти на самом краю Ютландии мы свернули с главной (теперь уж единственной) дороги налево и, удалившись от собственно Скагена, попали в Геммел-Скаген, представлявший собой, в сущности говоря, не более чем горстку красивых, желтого камня летних домишек, теснившихся вокруг маленькой харчевни и затем разбредавшихся по пляжу. В дверях одного из таких домов и стояли, ожидая нас, Бауманы. Гюнтер, с его лысиной, вылощенной солнцем до ореховой коричневы, с вишневой трубкой и поблескивающей бородой, выглядел истинным воплощением философа-моралиста девятнадцатого столетия — впечатление, несколько не вязавшееся с полосатой синей футболкой и шортами до колен; рядом с ним стояла его жена, Лиза, миниатюрная женщина в земляничного тона платье и туфлях на высоких каблуках — ее макияж и украшения годились скорее для вечера в ресторане, чем для послеполуденного пляжа. Ну и наконец, трое детей, из которых ни один даже малейшим сходством с родителями не обладал, ибо все трое отличались, если говорить напрямик, чрезмерной упитанностью. И не только самый младший из них, Рольф, но и, как с разочарованием обнаружил я, его сестры-двойняшки, Урсула и Ульрика, которые были ненамного старше меня и на общество которых я возлагал большие надежды, надежды, мгновенно уничтоженные несчастливой комплекцией девочек, их толстыми очками в стальной оправе и манерой хитровато хихикать. Впрочем, это стало и своего рода облегчением. Ибо означало, что верности моей никакие испытания не грозят. (Верности той, что даже не подозревает о моем существовании.)
Дом оказался чудесным. Он был построен на самом пляже, из высоких окон открывался потрясающий вид на серебристые валы, тянувшиеся вдоль всего бесконечного берега. Дом стоял немного в стороне от деревни и близкого соседа имел лишь одного — то было строение куда более скромное, но все же делившее с нашим поразительные пейзажи; делившее, собственно говоря, не только их, поскольку порядочного заднего двора ни у одного из домов не имелось — между ними лежала всего лишь полоска грубого дерна, смыкавшегося с уходящими вверх дюнами, а там и вовсе растворявшегося в них.
Новое наше жилище до того разволновало меня и Пола, что даже место, отведенное нам для спанья, нисколько нас не расстроило. Спать мы должны были в гостиной, на двух раскладушках. Обычно у меня мало находится слов для брата, однако в ту ночь, когда порожденное приездом возбуждение уже улеглось, я, вслушиваясь в сердитый рокот волн, вглядываясь в призрачные тени, которые разбросал по комнате лунный свет, ощутил вдруг первый и единственный приступ тоски по дому. И прошептал брату, лежавшему, как и я, без сна в темноте:
— Жаль, что мы не смогли поехать этим летом в Уэльс.
— Мы туда каждый год ездим, — ответил он. — Дай тебе с мамой волю, так наша семья никогда не решилась бы на что-нибудь новое и интересное. А вот мне здесь нравится.
— Да и мне тоже, — признался я. — Просто я вспомнил о дедушке с бабушкой.
Родители мамы всегда ездили с нами в Уэльс, останавливаясь в пансионе у дороги, ведущей к заливу Порт-Кейриард. В этом году им придется отправиться туда одним, и я знал, что они будут скучать по нам.
— Ничего с ними страшного не случится, — отмахнулся от меня Пол. — А теперь давай спать. Я хочу завтра поплавать перед завтраком.
Пристрастие брата к плаванию стало для меня новостью. От природы он тщедушен, однако в следующие несколько дней я понял, что Пол, по-видимому, немало тренировался в последнее время: руки у него стали сильными, мускулистыми, а плотная стена мышц на его животе объяснялась извлеченным им из чемодана «Буллуоркером» — одним из тех устрашающих устройств, реклама которых, размещаемая на последних страницах журналов и комиксов, обещает наградить вас таким телосложением, что девушки в бикини будут сбегаться со всего пляжа, чтобы вас увидеть. Выяснилось к тому же, что и пловец он лучший, чем все мы, — Пол заплывал вместе с Рольфом на неспокойную океанскую глубину, между тем как Ульрика, Урсула и я плескались на мелководье.
Меня спортсменом назвать никак нельзя. Поскольку земля вокруг расстилалась совершенно ровная, я с удовольствием гонял на одном из отыскавшихся в доме велосипедов — не ради физических упражнений, а просто для того, чтобы добираться до Скагена. Здесь я подыскивал себе занятия, более приходившиеся мне по вкусу. Я провел многие часы в музее Скагена с его превосходным собранием полотен. Живописцев скагенской школы, приезжавших сюда в начале столетия, привлекало в этот северный край земли особое качество света, отражаемого лежавшими вокруг морями. С наслаждением бродил я по оживленной гавани, наблюдая за приходом судов с огромными, набитыми камбалой, скатами и сельдью тралами. Съездил с отцом и матерью в Хальсиг, чтобы навестить Песочную церковь, входившую некогда в скагенский приход, но теперь почти наполовину погребенную под дрейфующими дюнами. Да и просто прогуливаться по Скагену было приятно — вдоль спокойной заводи Остербиви с ее золотисто-желтыми домами, чьи наполовину кирпичные, наполовину деревянные просмоленные фронтоны выглядели такими же опрятными, учтивыми и добронамеренными, как обитавшие за ними датчане.