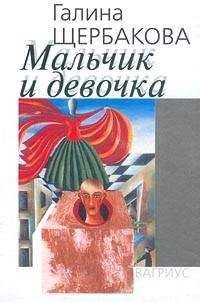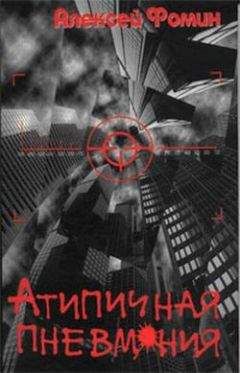А сейчас она видела сквозь ветки хлопоты сборов больной женщины в дорогу. Сама мать мальчика стояла на крыльце, вцепившись в поручень. На ней были мужские кальсоны и блузка с кружавчиками, а сверху наброшен плед. У нее подрагивала голова, а глаза все время следили за мальчиком, где он.
— Я хочу, чтоб он уехал тоже.
— Мама, — говорил мальчик, — я не могу бросить собаку. Вот выхожу ее и отдам соседям. Там живет хорошая девчонка, она возьмет. Я договорюсь.
«Это он про меня? — думала девочка. — Это я хорошая девчонка?»
Ей хотелось вскочить и забрать собаку сразу, ей хотелось доказать, что он не ошибся в ней: она хорошая; но мальчик сделал ей знак сидеть тихо, потом подошел и сказал:
— Не бери в голову. Это я нарочно. Это чтоб они оставили меня в покое. Собаку я не отдам никому.
— Я бы взяла, — с вызовом сказала девочка. И только тут вспомнила, что сама запустила псину в этот двор, спасая от повешения. Столько всего случилось за эти дни, и папа-палач как бы скрылся в тумане; а сейчас вот возник — весь набрякший от предвкушения скандала, весь к нему готовый. Девочке стало так страшно от этого видения, что все остальное, реально происходящее, она просмотрела: как усаживали мать в машину, как та отъехала. Вернувшись, она нашла на крылечке свою мать.
— Разбудила машина, — сказала она. — А мне так сладко вздремнулось.
У нее был заспанный, но вполне свежий вид. И черноты под глазами не было и в помине. — Они ее увезли в город? Ну и правильно. Инсульт — это не шуточки.
Мальчик ушел с собакой.
Она будет ждать его на воротах. Возвращаясь, он ее увидит и, может, заговорит.
Но он ушел в другую сторону, ту, что вела коротким путем к станции, — значит, тем же путем он и вернется. Она его не увидит.
В душе родилась маленькая, с манную крупинку, боль и стала набухать, как под крышкой с полотенцем. И возникло чувство одиночества, но не того, что радует ее довольно часто — «я у себя одна, а вы все не нужны мне на фиг», — а другого — болючего, обидчивого, когда хочется лбом прижаться к коре дерева и тереться об нее до крови и жаловаться, жаловаться и жаловаться. Кому? Она снова побежала к этому недобитку-Ангелу, постамент которого был окроплен мочой не одного поколения мальчишек. Обкаканный птицами, обписанный детьми, не поваленный взрослыми, он был одинок, как и она, и уже много десятков лет. Он один был — оказывается — ей брат по горю и печали. Других не было.
— Где ты! — кричит мать, но девочка не слышит. Зато она хорошо видит: Ангел светится. Сначала она думает, что так встала луна. Она сейчас полная и жирная и сочится тяжелым желтым маслом. Но нет, это не луна. Свет как бы с другой стороны. Он из самого Ангела, который стоит хорошенький и целехонький. И нет долбленой ямы вместо носа — наоборот, нос, как и полагается ему, собрал вокруг себя лицо, а белые мраморные глаза очень даже хорошо видят все вокруг и насквозь. И крылья целы, и даже как бы трепещут, как у присевшей на лист стрекозы. Нежно так, беззвучно подрагивают живой жизнью.
«Я нормальная, я в себе, — думает девочка, — просто мне это кажется. Я психанула, а он меня утешает. Это все в моей голове, и нигде больше. На самом деле он битый и траченый. Я сейчас потрогаю его рукой». Она трогает. И пальцы ее скользят по прохладному камню, в котором нет изъянов, а кончик тонкого крылышка легко ложится в ладонь, будто они одного размера. Девочка ощупывает все, все, все. И нос, и губы, уши и каменные кудри. «Так бывает, — думает девочка. — Случаются чудеса, чтобы глупый человек что-то понял, если жизнь ему непонятна. Но ведь мне все понятно. Все! Меня никто не любит. Я никому не нужна».
Вернувшись, она слышит крики. Идиоты они, что ли? У нее омерзительный («Твой, сволочь!» — кричит мать отцу) характер, и случись отцу уйти из дома, она (девочка) бросит школу и пойдет по рукам (господи, мама, окстись!). Но отец ее не защитил, он кричит, что не от него характер, а от матери. «Ты же вампир! Тебе это никто не говорил? Вот и у нее (у девочки) такая же природа, мать вашу… Ни подруг, ни мальчишек… Сидит рисует каляки-маляки. Модернист сопливый. Что ты за мать, что за мать?» — «Но это у тебя такая жизнь, что тебе только и дело сравнивать одну жену с другой, ты у нас устроился на две работы. Хотя о чем я? Тут-то у тебя работы никакой. Ни по дому, ни по воспитанию. Тут тебе достались вампиры. Отсосали беднягу».
Что-то упало, звякнуло. Девочка бредет назад. Но отец как ни в чем не бывало кричит ей вслед:
— Что, совсем не с кем поиграть? А куда делись подружки?
— Во что поиграть? — Девочке хотелось сказать что-то резкое. Не в том дело, что она подслушала разговор. Что, она раньше про это не знала? Она давно ждала, что родители разойдутся. Сейчас это виделось так. Они действительно расходятся. Как на дуэли. «Теперь разойдитесь». И они идут каждый в свою сторону, а она остается на том самом месте, где они были вместе. «Месте-вместе». Рифма получается. Мать не берет ее, потому как у нее (девочки) такой характер, что она станет шлюхой, наркоманкой, такая она в ее глазах. Девочка мысленно примеряет на себя эти роли, как она их видела в кино и по телевизору. Она стоит возле почтамта, и у нее юбки почти ноль. И при малейшем наклоне видна обтянутая попка-сливка. И к ней подходит дядя на раскоряченных ногах и говорит, что теперь она не имеет права ему отказать, так как это ее работа. А всякую работу надо делать добросовестно. И она идет за ним, потому действительно такая работа. И ее придумала для нее мама, и никто другой. Папа же — нет, он не хочет, чтоб она стала шлюхой, он водил ее в музей и объяснял, что картины существуют для того, чтобы в человеке вздрагивало сердце и хотелось чего-то хорошего. «Чего?» — спрашивала она. — «Раз спрашиваешь, значит, до тебя еще ничего не дошло». У нее вздрогнуло сердце у «Апофеоза войны», но ничего хорошего не захотелось, а хотелось уйти из музея раз и навсегда. «Эта картина против войны», — сказал отец. — «Нет, за! — ответила она. — Надо очень любить смерть, чтобы нарисовать столько черепов и остаться жить». — «Ты прямолинейна, как мама!» — сказал отец. Больше они в музей не ходили. А она однажды попробовала нарисовать по памяти «Апофеоз». Ничего не вышло. Каждый череп превращался в ее воображении в живого человека, и она не знала, что делать с этим возникшим в ней живым, который уже мертвый.
И тут в ее мысли о себе врываются быстрые шаги. По тропинке почти бежит женщина. И девочке не надо угадывать, кто это, она знает сразу. Пестрое платье, бывшее в уезжающей электричке бабочкой, тут, в сумраке липовой аллеи, кажется птицей. Она слышит «хлоп-хлоп» крыльев и свист дыхания от стремительной вкрадчивости полета. Птица-женщина проскакивает мимо девочки молча, а что бы она могла сказать, даже если б захотела? Она вошла в калитку, не дав ей скрипнуть там или пискнуть. Девочка понимает это. «Что там сейчас будет!» — думает девочка, и ей делается горячо и стыдно.
— Я не знаю эту даму, — говорит с крыльца отец. — Кто-то из новых соседей?
— А тебе какое дело? — хрипло, веревочно кричит девочка. — Ты тут больше не живешь! Тебя тут не стояло! Катись колбасой по дорожке косой!
Чего она не ожидала, так это выскочившей на крыльцо матери.
— Ты смеешь так говорить отцу? — шипит она с чувством глубокого удовлетворения (что, мол, я тебе говорила?).
Она уходит от них к прикованным липам. Она думает, чем они там занимаются — мальчик и эта летающая в платьях. Хорошо бы, чтоб в их самый-самый момент померла его мамаша. Девочке ее не жалко. Ей только обидно, что, если это случится, похороны будут в городе. Девочке так хотелось в этом участвовать. Жаль, что ее мама не подсказала, что и тут недалеко есть кладбище. И нецелесообразно возить труп за десятки километров. Это мамино любимое слово — целесо… Думая про чужую смерть, она обматывала вокруг горла веревку, которую носит в кармане. Как это сказала медсестра? Мать еще пожует сына всласть. Что она хотела этим сказать? Именно то, что сказала. Все-таки лучше бы из их двора вынесли гроб — она бы, девочка, срезала с куста розочку и положила бы покойнице к голове или куда там еще, а этот мальчик пусть остался бы неизжеванным.
Она подумала, что, в сущности, она совсем плохой человек, если так спокойно допускает смерть и своей, и чужой матери. Поставь себя на его место, думает она, поставь. И девочка ставит. Разбегается в панике кровь. Забарабанивает в отчаянии сердце. Она видит гроб и спокойно кладет к голове или куда там еще розочку. Это ее гроб.
Но тут кто-то сводит ее руки вместе, она кашляет и понимает, что это был мальчик с собакой. Это он разматывает ей горло, а собака лижет ей пальцы рук.
Дина уснула, а он лежал рядом и думал, что иметь такое количество счастья несправедливо, когда есть Чечня, детские дома, мамина болезнь, когда мир раскачивается в какой-то очень неудобной для человечества позе и люди сыплются с этих мировых качелей, как сыплются осенние листья, стоит легонько тряхнуть дерево. А у него счастье! Мальчик замер от неловкости перед теми, у кого нет даже осьмушки того, что есть у него. Но ведь это тот самый случай, когда не поделишься. Любовь — штука очень отдельная, на кусочки не разрежешь. Она его и только его, как глаз, как родинка на плече, как ямочка пупа. Мальчик был счастлив, и мальчик мучался и стыдился счастьем. Но тут тихонько взвыла собака и затрепетала ушами, а потом повернула к нему голову и стала смотреть ему в глаза, издавая при этом какие-то сдавленные звуки. Он встал и вышел с ней во двор. Собака пошла по дорожке к калитке. Он шел за ней, вышел за калитку. Тишина и темень ночных лип накрыли его с головой. Собака повернула направо, и он пошел за ней, как слепец. На поваленном дереве кто-то сидел. Он подошел вплотную и увидел этот отчаянно открытый рот и глаза, в которых стыл ужас. Он взял руки девчонки и разжал ее кулачки. Потом он взял веревку и сунул ее в карман. Девчонка упала лицом себе в колени и казалась такой маленькой, будто ей лет шесть, не больше. Он обнял ее и прижал к себе и почувствовал, как она дрожит, спрятав лицо ему под мышку.