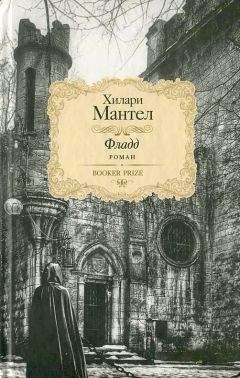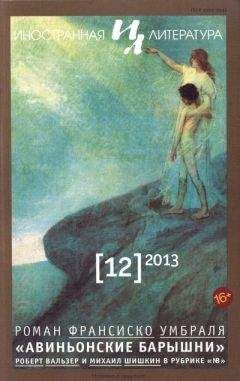У маргарина в тот вечер был особенно едкий вкус, как будто в него что-то подмешали — вполне обоснованная догадка, учитывая, что сестра Антония отличалась рассеянностью, слабым зрением и (как подозревали многие) вредным характером. Ели, как требовал устав, в полном молчании, но думали про себя, что скажут о маргарине позже. Лица Поликарпы, Игнатии Лойолы и Кириллы кривились от усилий сдержать колкие замечания; злость, словно выпавший зуб, хотелось выплюнуть поскорее, но оставалось только перекатывать во рту.
До сна предстояла только одна трапеза — суп, и Филомене уже чудился его запах. Она представила, как сидит на своем месте (места никогда не менялись, разве что кто-нибудь приедет или уедет; либо умрет, что представлялось более вероятным). «Скоро я буду снова сидеть здесь, — думала она, — после стояния на коленях в монастырской часовне, сразу за сестрой Кириллой, после Скорбных тайн Розария[47] и других унылых молитв. Ежевечернее исповедание грехов, крестное знамение, затем бегом на кухню, чтобы помочь сестре Антонии и получить свою долю злобных взглядов и попреков. Большой синий фартук, супница и половник, дребезжание окон на сквозняке, когда я, оттопырив локти, несу по коридору супницу. «Благослови нас, Боже, и сии дары Твои…» Звяканье половника о миски. Серый пересоленный бульон с комками пены, ошметки овощей (или картофельная шелуха) на дне миски…»
От внезапной боли под ребрами Филомена дернулась и чуть не упала со скамьи. Она сдержала вскрик — зачем добавлять новый проступок к тому, который только что заметила Перпетуя? Тычок острым пальцем должен был согнать с лица девушки ту мечтательную отрешенность, которую Питура воспринимала как личное оскорбление. Ненадолго уйдя в свои мысли, Филомена втиснула в короткое время целый отрезок дня между двумя трапезами — от хлеба с маргарином до супа. Впрочем, какая разница? Обычное течение времени привело бы на ту же скамью, к тому же кисло-соленому вкусу на языке. Всю ее жизнь можно было свести к одному долгому дню, который начинался возгласом Dominus vobiscum и заканчивался келейной молитвой перед распятием, коленями на холодном линолеуме. Если каждый следующий день будет таким же, зачем вообще дни? Почему бы не пропустить их, не прожить оставшиеся сорок лет за одну минуту? Она опустила голову, словно разглядывая деревянный стол, и ей пришла мысль: «Я достигла самого дна, меня не волнует будущее. Я знаю, каким оно будет, все записано в уставе. — Она почти невидящими глазами, в которых еще стояло видение череды неотличимых дней, взглянула на Перпетую и впервые подумала: — Тот, кто управляет моим будущим, крадет его у меня».
А если будущее предсказуемо, значит ли это, что все определено заранее? Если оно предсказуемо, можно ли на него хоть как-то влиять? Старая песня, подумала она с отвращением к себе, семинарский вопрос. Свободна ли моя воля?
Ветер за окном утих. Монахини, допивавшие последние глотки жидкого чая, одна за другой подняли голову и переглянулись, как будто в тишине неожиданно прозвучал чей-то голос. В трапезной повеяло беспокойным ожиданием. Странная рябь пробежала по столу. Разрешенная орденом сорокаваттная лампочка мигнула раз, другой, третий. Троекратно, словно отречение Петра. Тощие тени потупились и забормотали благодарственную молитву, затем взметнулись, словно языки пламени, и засеменили к двери.
* * *
Священники поужинали рано. Ели тушеное мясо с картошкой; вернее, отец Ангуин ел, но не видел, как ест Фладд. Все было как обычно: полная тарелка, затем пустая, а между одним и другим — еле заметное движение челюстей, не объясняющее, куда исчезла целая порция.
Не меньше смущал отца Ангуина другой вопрос: уровень виски в бутылке. Сколько бы он ни пил последнее время, уровень этот оставался прежним. Каждый вечер старший священник говорил младшему: «Если собираемся завтра снова посидеть, надо припасти бутылочку», — но днем как-то успевал выбросить докучную заботу из головы, а вечером обнаруживал, что в бутылке еще довольно. Не много — не для большой попойки. А вот посидеть за разговором — хватит.
— Здесь стало очень тихо, — заметил отец Ангуин, протягивая младшему священнику стакан.
— Ветер улегся.
— Нет, я хотел сказать, в целом. С вашего приезда. Быть может, вы, не ставя меня в известность, слегка подзанялись экзорцизмом?
— Нет, — ответил Фладд, — но я влез на крышу и слегка подремонтировал водосточные желоба. Просто для отдыха. Лестницу одолжил у благочестивого недерхотонского семейства. И я проконсультировался у мистера Макэвоя касательно водосточных труб. Для табачника он на удивление сведущ в таких материях. И еще он опасается, что в церкви тоже нужно делать капитальный ремонт. Только денег потребуется уйма.
— Нас беспокоили не скрипы и капающая вода, — произнес отец Ангуин. — К ним мы привыкли. Однако мы слышали шаги наверху, и часто возникало чувство, будто в комнате кто-то есть. Или, бывало, дверь распахнется, но никто никогда не входит.
— Нельзя сказать, что совсем уж никогда, — возразил Фладд. — Ведь я же в конце концов вошел.
— Агнесса считает, что дом населяют нематериальные сущности.
— Враждебного свойства?
— Трудно сказать. Агнесса верит в разнообразных чертей. В этом смысле у нее очень старомодные взгляды.
— Да, понимаю вас. Сейчас принято небрежно говорить просто «черт». Мне это удивительно, если вспомнить, что столетиями лучшие умы Европы занимались подсчетом нечистых духов и устанавливали их индивидуальные особенности.
— Реджинальд Скотт[48] во второй половине шестнадцатого века насчитал четырнадцать миллионов. Плюс-минус.
— Могу уточнить, — сказал Фладд. — Четырнадцать миллионов, сто девяносто восемь тысяч, пятьсот восемьдесят. Исключая, конечно, дьяволов более высокого разряда. Это число обычных рядовых чертей.
— Но в те времена, если дьявол появлялся, были заклятья, чтобы принудить его к повиновению и допросить: каково имя и звание. Тогда хорошо понимали, у бесов есть специализация и свои узнаваемые особенности.
— Святой Иларий говорит нам, что каждый нечистый дух воняет по-своему.
— А теперь люди говорят просто «сатана» или «Люцифер». Беда нашего времени — нежелание вникать в частности.
— Сестра Филомена сказала мне, — заметил Фладд, потягивая виски, — что в детстве видела дьявола. По ее словам, он совсем не походил на мистера Макэвоя. С другой стороны, откуда взяться сходству?
Отец Ангуин отвел взгляд.
— Знаю, что насчет Джадда мне никто не верит. Да только понимаете, отец Фладд, нашим предшественникам было легче. Теперь бесы реже являются нам на глаза. Сестре Филомене исключительно повезло. Думая о дьяволе, она может вообразить нечто конкретное.
— Вы попытались сделать то же самое.
— У каждого беса должна быть внешность. Волчья, змеиная. Или хотя бы внешность табачника. Что-то знакомое, наш собственный образ или близкий к нему: животное, человек либо их гибрид. Потому что как иначе его вообразить? Ведь ничего иного мы не видели.
— Демонология, — ответил Фладд, отпивая глоток, — наука тяжелая. Сложная и невыносимо тяжелая. Особенно для вас, поскольку вы больше не верите в Бога.
— Если бы не Макэвой, — проговорил отец Ангуин, глядя на огонь в камине, — не знаю, что бы со мной сталось. Возможно, я бы перестал верить в дьявола и сделался рационалистом.
— Я вижу перемены. — Фладд посмотрел на огонь. — Когда-то духов было столько, что они роились в воздухе, словно августовские мухи. Теперь воздух пуст. Остались только человек и его заботы.
Отец Ангуин сидел, сгорбившись, и держал стакан обеими руками. Виски в бутылке не убавилось.
— Я болен, — сказал он, — и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих[49].
— Ах, любезный! — Фладд отвернулся от камина и с тревогой взглянул на собеседника.
— Это цитата, — сказал Ангуин. — Библейский текст. Из Ветхого Завета. Книга кого-то-там.
Фладд вспомнил сестру Филомену на огородах и то, как она не узнала библейскую цитату из его уст. При мысли о монашке смутное беспокойство зашевелилось у него под ложечкой. «Вот ведь, я и не знал, что у меня есть человеческие чувства», — подумал он и вновь потянулся за стаканом.
— Я как отец Сурен[50], — сказал Ангуин.
— Извините, мне не доводилось с ним встречаться.
— Я о луденском экзорцисте. — Отец Ангуин уперся руками в подлокотники и тяжело встал с кресла.
Фладд отметил про себя, что за недолгое время их знакомства движения священника стали более медлительными, живые черты застыли, превратившись в скорбную маску. Он так долго играл роль, ни словом, ни делом не выдавая, что разуверился в самой сути священнического призвания. «Но мой приезд что-то изменил, — подумал Фладд, — притворство сделалось невыносимым, правда должна выйти наружу. Что-то новое происходит в его сердце: пробуждаются неведомые прежде чувства и мысли».