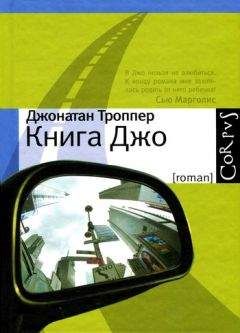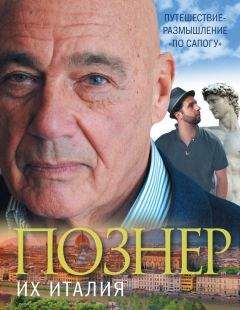— До чего ж мне хреново, — хрипло говорит он, в его тяжелое, неровное дыхание с трудом вклиниваются слова, — не представляешь, как хреново.
Я молча киваю, придерживая его за плечо. Через несколько минут он закрывает глаза и погружается в прерывистый сон. Я бесцельно кружу по улицам, пока он спит, и зачарованно слушаю, как шины шуршат по асфальту. Где-то через час я оглядываюсь по сторонам, впервые замечая незнакомую местность, и понимаю, что выехал за границу города, я больше не в Буш-Фолс. Как будто бежать отсюда — это выход, как мне казалось семнадцать лет назад.
Я отпираю родительский дом Уэйна ключом, который отыскиваю в кармане его куртки, и тихонько заношу его в его комнату на втором этаже. Он ужасно легкий, почти невесомый, не просыпается у меня на руках, и в какой-то момент я ясно вижу пожирающий его вирус: такое розовое, мохнатое существо, которое пульсирует и расползается по его внутренностям. Я опускаю его на кровать, стаскиваю куртку и укрываю одеялом, которое лежало в ногах постели аккуратно сложенное. На складном столике у кровати — огромное количество пузырьков с таблетками и кувшин с ледяной водой, кубики в нем наполовину растаяли. Под столиком лежат кислородный баллон и маска, а с другой стороны кровати гудит огромный увлажнитель воздуха. Не считая этих печальных нововведений, комната Уэйна выглядит примерно так, как я помню со школьных лет. Я обнаруживаю два экземпляра «Буш-Фолс», и как раз когда я снимаю с полки один из них, в комнату в банном халате входит мать Уэйна. Уже сильно за полночь, но не похоже, чтобы она ложилась. Я вспоминаю, что Уэйн говорил — по вечерам мать допоздна читает Библию.
— Кто здесь? — шепчет она.
Ее седые волосы уложены в тугой пучок, она вглядывается в темноту, морща тонкие бесцветные губы.
— Это я, миссис Харгроув. Джо.
— Джозеф Гофман? — говорит она, входя в комнату. — Как ты здесь очутился?
— Я просто провожал Уэйна домой, — отвечаю я. — Ему нужно было немного помочь.
Она смотрит на Уэйна, который не сдвинулся с тех пор, как я его внес, и как будто порывается подойти и поправить одеяло, но потом, видно, передумывает и остается стоять, где стояла, со скрещенными на груди руками.
— Ему незачем было шляться по улицам, — хмуро говорит она.
— Просто захотелось воздухом подышать.
— «Воздухом подышать»! — презрительно повторяет она. И тут замечает у меня в руках книгу.
— Ты, значит, стал знаменитым писателем, — произносит она таким тоном, каким она могла бы сказать «тебя, значит, посадили за педофилию».
— Честно говоря, да.
— Ну, — заявляет она надменно, — я такой мусор не читаю.
— Если вы не читали, то откуда знаете, что это мусор?
— Наслышана, — мрачно отвечает она. — И уж поверь, этого мне хватило.
— Ладно, — говорю я, возвращая книгу на место, — намек понят.
Я спускаюсь по ступенькам и только теперь замечаю распятие и всевозможные изображения Христа, которыми завешаны все стенки. Мать Уэйна следует за мной, бормоча что-то себе под нос. Когда я стою у входной двери, она негромко окликает меня.
— Да, — отвечаю я.
— Я молюсь за твоего отца, — говорит она.
— А как насчет вашего сына?
Она, нахмурясь, обращает взгляд к небесам:
— Я молюсь за его душу.
— Он еще не умер, — говорю я. — Ему нужно сочувствие, а не молитвы.
— Он согрешил против Господа. Теперь за это расплачивается.
— А в Библии, конечно, написано, что женщина, отказывающая своему страждущему ребенку в материнской любви, достойна всяческих похвал.
Глаза ее загораются праведным гневом.
— Джо, когда ты в последний раз читал Библию?
— Я такой мусор не читаю, — отвечаю я. — Наслышан, и уж поверьте, этого мне хватило.
Надо добыть пластырь. Я доползаю до отцовского дома только в полтретьего утра, шатающийся и невыносимо уставший: этот день, похоже, был самым длинным в моей жизни. В аптечке в туалете на первом этаже я отыскиваю заживляющую мазь и марлевые салфетки, но пластыря нигде нет, а рана в левом виске ноет и мокнет. Тут я вспоминаю, что пластырь всю жизнь хранился в аптечке над баком для грязного белья в родительской спальне, и это простое воспоминание вызывает в памяти такой поток образов из детства, что у меня перехватывает дыхание. Я некоторое время жду, пока хаос в голове уляжется, и поднимаюсь наверх.
Спальня отца почти не изменилась: дубовая мебель, грязного цвета ковер, поблекшее бархатное кресло погребено под ворохом старых газет и журналов. Мамин туалетный столик на месте, лосьоны и кремы по-прежнему стоят на подносе с восточным орнаментом у зеркала, к ним не прикасались больше двадцати лет. Если бы мне захотелось открыть ящики ее комода, то я наверняка нашел бы там ее блузки, шарфы и белье, аккуратно разложенные в ожидании ее прихода. Знаю, потому что в первые годы после ее смерти я регулярно наведывался к этому комоду, иногда вынимал какой-нибудь шарф, чтобы вдохнуть ускользающий аромат ее духов. С чего бы вдруг отец стал освобождать комод за эти годы? Его дом превратился в склеп, в котором хранятся разрозненные остатки того, что когда-то было семьей, хранятся, неподвластные ни времени, ни другим стихиям, которые порвали нас в клочья.
Всегда лучше, чтобы пластырь наклеивал кто-то другой. Когда сам отклеиваешь эту белую полосочку, то испытываешь безмерную жалость к самому себе, это действие как будто лишний раз подчеркивает, что в целом мире не нашлось никого, кто бы сделал это для тебя! Я со вздохом склоняюсь к зеркалу, чтобы приклеить пластырь на висок, и обращаю внимание на какое-то отражение. В самом углу зеркала видна дверь в спальню отца, прикрытая наполовину, и с обратной стороны на ней висит плакат в раме. Я оборачиваюсь и, к своему огромному изумлению, вижу, что не ошибся: это прошлогодняя афиша, выпущенная по случаю шумного выхода фильма по «Буш-Фолс». Выглядит она так: на заднем плане изображен бассейн, он обрамлен голыми, широко расставленными ногами и обтянутыми бикини ягодицами — женщина стоит к нам спиной. Между ног у нее виднеется стоящий по пояс в воде Леонардо Ди Каприо, который с дурацким, преувеличенным восхищением глазеет на верхнюю часть ее тела, невидимую зрителю. Под фотографией крупным белым шрифтом написано «Буш-Фолс», а ниже — идиотский рекламный лозунг: «Такое жаркое лето». У Оуэна при виде этого плаката случился приступ смеха минут на десять.
— Господи помилуй! — выдохнул он наконец с сильным южным акцентом, который он всегда изображает в таких случаях. — Какая прелесть!
— Это же пошлость! — возмутился я, задетый его снисходительным тоном.
— Восхитительная пошлость! — воскликнул Оуэн и снова покатился со смеху. Мне было совсем не до смеха, я пытался представить, что подумает Люси Хабер, когда увидит этот плакат.
И вот вам, пожалуйста: он совершенно необъяснимым образом висит на двери отцовской спальни. Я пристально смотрю на него, пытаясь какими-нибудь аналитическими методами определить смысл того, что он здесь. По какой причине отец мог бы повесить у себя афишу к фильму собственного сына? Я вижу единственный возможный ответ, и он ошарашивает: гордость. Отец мной гордился. Город стоял на ушах после выхода книги, местные газеты пестрели гневными передовицами и письмами открещивающихся читателей. Через два года, когда вышел фильм, десятки новостных и развлекательных изданий снова подняли бучу, и журналисты толпами повалили в городок — писать о нем заметки и интервьюировать тех, с кого были написаны герои фильма. С кем бы ни говорили репортеры — все поливали меня грязью. Шериф Мьюзер даже попытался инициировать коллективный иск против меня. И вот во время всей этой вакханалии мой отец, с которым я практически ни разу не разговаривал за десять лет, взял эту киноафишу, вставил в рамку и повесил у себя в спальне, чтобы видеть ее каждый вечер перед отходом ко сну.
С растущим подозрением я бегу вниз, в отцовский кабинет. И там, рядом со шкафом со спортивными призами и баскетбольными наградами в рамах, полученными отцом и Брэдом, стоит стеллаж из «Икеа», в котором я обнаруживаю пятнадцать экземпляров «Буш-Фолс» в твердом переплете и еще штук двадцать в мягкой обложке, с той же афишей спереди. На шкафу лежит большая плоская книга — оказывается, это альбом для самодельных архивов, такие можно купить в канцтоварах. Я дрожащими руками раскрываю его, и переплет издает громкий треск. Аккуратно наклеенные по центру каждой страницы, под защитной пленкой красуются всевозможные обзоры «Буш-Фолс»: тут и «Нью-Йорк таймс», и «Энтертейнтмент уикли», и «Минитмен» и прочие местные издания. В верхнем левом уголке одного из обзоров виднеется небольшой штамп «ВМТ медиауслуги». Он нанял специальное агентство, чтобы отслеживать публикации обо мне. У меня подкашиваются ноги, и я опускаюсь на кушетку у стены, не выпуская из рук альбома. Кушетка пахнет отцовским табаком и лосьоном после бритья. «Что за черт!» — громко говорю я, а по щеке у меня скатывается слеза и капает на обложку из кожзаменителя. За ней стекает вторая и третья. Я смотрю на три мокрых пятна на обложке, пытаясь понять, что все это значит. Но прежде чем я что-либо понимаю, меня целлофановой пленкой окутывает сон, и последнее, что я слышу, — это глухой звук падения альбома на пол.