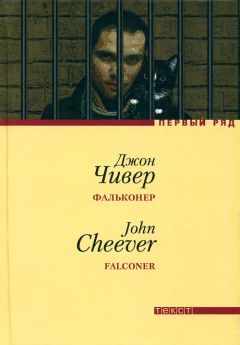Впрочем, Элиот просил разыскать этого гуру, и Нэлли поехала в район трущоб, расположенных в старой части поселка, возле самой реки. Нэлли туда никогда не доводилось ездить. В газетах она читала, что там среди бела дня грабят и убивают женщин, а в барах царит поножовщина. Шел проливной дождь, и, хоть вечер еще не наступил, начало темнеть. Все дожди одинаковы на вкус, однако Нэлли резко различала сорта дождей. Одни спускаются тонкой сеткой с невинных небес ее детства, другие отдают горечью и грозой, третьи, беспощадные как память, падают вам прямо в душу. В этот день у дождя был солоноватый привкус крови. Итак, Нэлли села в машину и отправилась в трущобы искать похоронное бюро Пейтона. Оно ютилось в обшарпанном деревянном домике с узкой стрельчатой дверью — остроконечный свод над нею как бы напоминал о том, что щель эта — вход в святыню, куда вносят покойников (трупы хулиганов, зарезанных хулиганами) и откуда те совершают свой последний путь на раскинувшееся где-то на краю света черное кладбище. Слева от этой щели была другая дверь, за которой, как полагала Нэлли, должна быть лестница, ведущая на второй этаж. И в самом деле, толкнув дверь, она очутилась перед лестницей.
Нэлли так привыкла жить в стенах своего дома, в своих комнатах, в своем надежном маленьком мирке, дышавшем благопристойностью и покоем, что эта родная атмосфера, казалось, пронизала все клетки ее организма вплоть до самых хромосом. Здесь же ей все было дико, все вызывало смятение. Чуждый, затхлый запах передней, этот извечный запах всех передних такого рода, как бы лишал ее нравственной опоры. Она принялась озираться по сторонам в надежде увидеть какой-нибудь предмет из ее привычного окружения — хотя бы огнетушитель! — но во всей прихожей не было ничего, что принадлежало бы к ее миру. Если бы перед ней внезапно возник один из тех легендарных насильников, о которых она читала в вечерних газетах, она оказалась бы совершенно беззащитной перед ним. Нэлли растерялась. Она не на шутку трусила. Инстинкт побуждал ее бежать из этого дома, бежать без оглядки. Долг повелевал подняться по лестнице на второй этаж. Между этими двумя могучими силами пролегала широкая река без мостов, и на какой-то миг перед Нэлли открылась вся безбрежность разобщения этих двух сил, что управляли ее жизнью. Ей казалось, что она стоит на железнодорожной платформе, провожая ту себя, которую сейчас увезет поезд, Или нет, не на платформе, а на краю собственной могилы, среди тех, кто пришёл отдать ей последний долг. Прощай, Нэлли.
Она чувствовала с болезненной остротой, что в этой трущобе на берегах Уэконсета ей не отведено никакой роли. В самом деле, кто она такая? Агент по переписи населения? Представительница общества борьбы с безработицей? Активистка из лиги по предотвращению демографического взрыва, снабжавшей население бесплатными противозачаточными пилюлями? Член совета по оказанию помощи матерям-одиночкам? Дама, распределяющая выручку от благотворительного базара? Нет, нет и нет. Она всего-навсего мать, у которой сын поражен тяжким недугом, отправившаяся (по рекомендации воровки) на поиски кудесника. «Ведь я хорошая, порядочная женщина, — принялась она себя убеждать, одновременно понимая, как это смешно и нелепо. — Я ни разу не задавила ни одной белки на шоссе, я не забываю подкармливать птиц зимой», — твердила она, как заклинание, поднимаясь по лестнице. На верхней площадке кто-то начертал пальцем по пыльному окну: «Сид Гринберг жует табак и курит». На площадку выходили две двери. Из-за одной, той, к которой была прибита табличка: «Храм Света», доносилась музыка, приглушенное пение из радиоприемника. Нэлли постучалась и, не услышав ответа, произнесла: «Свами Рутуола, свами Рутуола…»
Из-за второй двери послышалось громкое хихиканье — то ли похотливое, то ли пьяное, — и чей-то женский голос передразнивал Нэлли: «Ах, швабра Рутагола, швабра Рутагола…» К женскому хихиканью присоединилось мужское. То был постельный смех. «Ах, моя швабра…» — еще раз произнесла женщина. Казалось, она обессилела от смеха. Нэлли постучалась еще раз, и мужской голос предложил ей войти. Шоколадный негр обивал стул коленкором. Священный запах древесной стружки. Не отсюда ли святость Христа, родившегося в семье плотника? Или, напротив, это Христос придал святость запаху древесной стружки? В углу комнаты был воздвигнут алтарь, на котором посреди букета восковых цветов горела свеча. Восковые цветы напоминали о смерти, — о смерти да еще о китайских ресторанах.
— Милости просим в Храм Света! — произнес негр.
Голос у него был высокий, акцент ярко выраженный. Да, но какой? Вероятно, ямайский, решила Нэлли. На худощавом лице его выделялся изуродованный глаз. Племенная война? Стрела? Камень, выпущенный из пращи? Глаз этот был неподвижен и воздет к небу, как бы в постоянном религиозном экстазе. Другой сверкал и был исполнен выразительности.
— Меня зовут миссис Элиот Нейлз, — сказала Нэлли. — Мэри Эштон дала мне ваш адрес. У меня болен сын.
— Вы хотите, чтобы я поехал к вам сейчас же? — спросил Рутуола чуть нараспев.
— Да, да, — сказала она, — если вам нетрудно и если вы думаете, что в состоянии ему помочь.
— Попробую, — сказал он. — Своей машины у меня нет, а поймать такси во время дождя чрезвычайно трудно, Я сейчас, только вымою руки.
По дороге Нэлли описала ему состояние Тони и все, что предшествовало его болезни. Нет, решила она, у него не ямайский акцент. Его речь — речь человека без корней, с претензией на изыск и даже некоторую рафинированность.
Перед тем как проводить Рутуолу в комнату Тони, Нэлли предложила ему виски.
— Ах, нет, спасибо, — сказал он. — У меня в душе нечто такое, что согревает лучше алкоголя.
— Я могу вам быть чем-нибудь полезна?
— Мне необходимо одно: уверенность, что никто нам не помешает.
— За этим я прослежу.
Нэлли спустилась вниз и налила себе виски. Негр вошел к Тони в комнату.
— Меня зовут свами Рутуола, — представился он. — Я пришел помочь вам, во всяком случае я надеюсь, что мне это удастся. Но сперва я должен вам объяснить, отчего у меня такой глаз. Когда мне было пятнадцать, я поддался роковому порыву и украл велосипед. Это был ярко-красный английский велосипед фирмы «Швинн» с тремя скоростями. Я не мог совладать с соблазном. Я спрятал велосипед в подвале. Когда отец его обнаружил, он меня избил, заставил меня возвратить его владельцу, и сам со мной пошел. Отец мальчика, у которого я украл велосипед, не хотел возбуждать против меня дело, но мои родители настояли на том, чтобы меня привлекли к суду. Они боялись, что, если меня не накажут, я вырасту вором. Это были добрые, мягкосердечные люди; теперь мне кажется, я их понимаю: они просто боялись всего на свете. Меня приговорили к шести месяцам исправительной колонии в Ливертауне. Среди заключенных, как это часто бывает, была группа гангстеров, образовавших нечто вроде государства в тюремном государстве. Они были чрезвычайно жестоки, и чтобы оградить себя, я притворился хромым. Увидев, что я хромаю, рассудил я, они, быть может, меня пощадят. Но однажды, направляясь в столовую, я забылся и пошел своей обычной походкой, а они, поняв, что я их провел, зверски меня избили. В результате я потерял левый глаз и провалялся две недели в больнице. Я мог бы всего этого вам не рассказывать, но дело в том, что люди слушают не только ушами, но и глазами и обычно наблюдают за выражением глаз собеседника. Поскольку я наполовину лишен возможности пользоваться этим средством коммуникации, людям бывает трудно найти со мной контакт. Когда мы с вами будем беседовать, я сяду где-нибудь в тени, чтобы вас не смущал мой испорченный глаз, но прежде всего мне хотелось бы немного убрать у вас в комнате. Благочестие — сестра чистоты, так, кажется, говорится? Или, может быть, наоборот.
— Кажется, наоборот, — сказал Тони.
В комнате повсюду — на спинках стульев и на ручках дверей — была развешана одежда Тони. Одна створка гардероба была открыта. Свами все собрал, разыскал в гардеробе мешок для прачечной и сунул в него белье. Пиджак он одел на вешалку, в туфли вставил распорки, затем прикрыл шкаф и смахнул пыль с кресел.
— Ну вот, кажется, стало немного лучше, правда? — сказал он. — Теперь мне хотелось бы покурить здесь благовониями, если вы не возражаете.
— Делайте все, что хотите. Но вообще-то я не люблю благовоний. Да и всякую парфюмерию. Я никогда не пользуюсь лосьоном после бритья. Мне нравится, когда от девушек пахнет духами, но только я не люблю, чтобы ими пахло в комнате. Не люблю запах парфюмерных магазинов.
— Я вас понимаю, — сказал Рутуола. — Но мое благовоние без приторности и очень слабое. Сандаловое дерево. У него очень чистый запах.
Он вынул из кармана тонкую палочку и зажег ее.
— Ну хорошо, — сказал Тони.
— Я родился в Балтиморе, — начал Рутуола. — Родители мои были люди бедные, впрочем, я не стану томить вас перечислением всех невзгод, какие выпали на долю моей расы, — вы это знаете и так. Я кончил восемь классов и прекрасно читаю, но с арифметикой у меня слабо. Отец мой был столяром, и когда меня выпустили из колонии на поруки, я стал ему помогать. Затем, много позднее, я поехал в Нью-Йорк и устроился работать на Центральном вокзале. Работа была не из завидных. Пять дней в неделю, по восемь часов в день, я чистил уборные. Мне приходилось мыть полы и прочее, но большая часть времени уходила у меня на то, чтобы смывать надписи со стен. Стены там белые, и на них очень удобно писать, так что к субботе все стены бывали покрыты надписями. Вначале меня это очень смущало, а потом я понял, что человек пишет на стенах оттого, что не может не писать. Ему неприятно, когда его писания стирают, словно таким образом стирается какая-то часть его самого. Иные даже вырезали слова ножом на дверях. Ненормальными этих людей не назовешь — их ведь тысячи, и я понял все одиночество, всю неутоленность людского рода. Однажды ночью, вернее, под утро — дело было в четвертом часу — я протирал тряпкой пол. Ко мне вдруг подходит человек и говорит: «Спасите меня, я, кажется, умираю». На нем был дорогой костюм, а лицо у него было пепельно-серое. Я сказал, что обычно в это время полицейский делает обход, и предложил сбегать наверх и попросить его вызвать карету «скорой помощи». Но он сказал: «Ах, не оставляйте меня одного, я не хочу умирать в одиночестве!» Тогда я сказал: «Пойдемте вместе в зал ожидания, я вам помогу». Я подхватил его под руку, и мы медленно поднялись… Он все время стонал. В зале ожидания полицейского не оказалось, вообще никого не было, и он сказал, что не может больше стоять, и мы вместе сели на какую-то ступеньку. В зале было уныло, холодно и голо, но на одной стене висела большая ярко освещенная реклама фотоаппаратов. На ней были изображены мужчина, женщина и двое детей на пляже — у какого-то озера, кажется, — а позади, в отдалении — горы, покрытые снегом. Это была красивая, радостная картина, и она казалась еще красивее оттого, что кругом все было такое голое, холодное и безрадостное. Я сказал ему, чтобы он смотрел на гору — быть может, сказал я, это поможет вам отвлечься от ваших страданий. И еще я ему сказал: «Давайте помолимся», — но он сказал, что не помнит ни одной молитвы, и я вдруг сообразил, что и сам почти никаких молитв не знаю, и тогда я сказал: «Давайте придумаем молитву», и начал говорить: «Мужество, мужество, мужество», и произносил подряд одно это слово; вскоре и он стал повторять за мной: «Мужество, мужество…» Тогда я стал произносить другие слова, и он повторял их, пока наконец не объявил, что чувствует себя лучше и возьмет такси, поедет в какую-нибудь гостиницу и попробует поспать. Мы с ним простились, и больше я никогда его не видел. Недели через две-три после этой встречи я приехал сюда и стал работать у своего двоюродного брата, мистера Перчема. Он плотник.