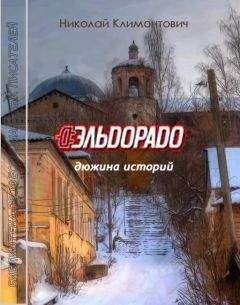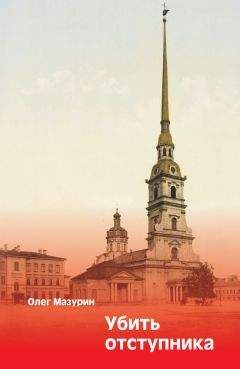Еще в поезде, когда мы с Ларой сидели в ресторане, она рассказала, что младшей лет двадцать пять, старшей же — около пятидесяти, но они утверждают, что являются сестрами: не только в смысле пострига, но и по прямому родству. На самом деле они скрывают, что они мать и дочь, но это тайна, понимаешь, тайна, ты уж притворись, шептала Лара страшным шепотом. Видимо, мою буржуазную подругу будоражил дух секретности этих частных подробностей, которые теперь, когда мы туда попадем, станут отчасти и нашими интимными обстоятельствами. Зачем бы это скрывать истинное положение дел, помнится, лениво подумал я, разве что для имитации девства обеих. Ну да какое мне дело до страшных тайн двух мирных беглых монашек-спекулянток.
Поскольку в обители монашек я не мог стать постояльцем, не подходил по признаку пола, то первым делом меня завезли в единственную в городе гостиницу с общим душем в конце коридора. Однако я успел лишь заселиться, то есть заплатить за номер и бросить дорожный саквояж, поскольку мы торопились на праздничный пасхальный обед, с которым нас ждала старшая. Подобрав меня, БМВ рассекла лужу на площади перед гостиницей, сиганула через деревянный мост, выскочила из центра, описала петлю по каким-то кривым улицам, пересекая посад, и мы прибыли. Пока сестра Аглая загоняла машину в гараж, сумку оставьте, сказала она Ларе, я приберу, старшая сестра Анастасия точно в такой же рясе и накидке, в такой же белой косынке, облобызав Лару, облобызала и меня. А потом, не заводя в дом, стала показывать поместье: голый пока сад, остовы прошлогодних теплиц с обрывками полиэтилена, вид на выгон, где за кустами пропадала речка, на уже виденную нами белую колокольню на другом высоком берегу. Порыкивающая кудлатая немецкая овчарка бегала по цепи во дворе, а, успокоившись, ворча, убралась в вольер, устроенный у соседского забора. Это у нас вторая, первую сосед-милиционер отравил, буднично обронила хозяйка, как если бы здесь было принято — травить соседских собак. Но взглянула исподволь острым глазком: она, я заметил, с первой минуты ко мне приглядывалась. Что ж, подумал я, она по деревенской привычке на всякий случай изливает свои обиды столичному человеку, который, что бы там ни было, ближе к центральной власти.
Были они не местные, родом из Тульской губернии, впрочем, о прошлом сестра Анастасия говорила неохотно. Сказала только вскользь, что в монастырь этого захолустного городишки попали из другого южнорусского монастыря, и пробыли здесь шесть лет. А вот недавно, в том годе, изделия матушки Аглаи взяли грамоту на выставке в Ватикане, сообщила она со слащавой торжественностью, быть может, набивая цену на свои изделия. Что ж, настоятельница, верно, рассталась с ними не только из-за неуместного сестринского сребролюбия, но и по причине греха гордыни. И вот теперь у них свой дом, говорила монашка, напирая на слово свой, недавно приобретенный, с котельной в подвале, с гаражом и баней. Дом действительно был внушителен, красного кирпича, двухэтажный.
Позвали внутрь. Оказалось, сестры держат еще пару персиковых лабрадоров, черно-белого красавца бёрна, двух колли, и собаки бродили по сеням и комнатам, тычась гостям в колени. Старшая по-прежнему говорила, не замолкая, тогда как младшая больше помалкивала. По словам старшей, произнесенным с нажимом, этим Великим постом они особенно усиленно постились, но отчего особенно — не сказала. При этом обе отнюдь не были бледны, как бывают белы до прозрачной синевы, с чернотой округ глаз, истовые молитвенницы и постницы, вовсе не казались изможденными, напротив, были оживлены и энергичны.
Мать и дочь одна на другую не были похожи: старшая — коренастая, с широкими сильными крестьянскими руками, кареглазая, другая — светленькая, с худым лицом. Девушка хоть и была, по словам старшей, с двенадцати лет в монастыре келейницей, то есть девчонкой при настоятельнице, отнюдь не выглядела смиренницей, и под ее рясой, когда она двигалась по комнате, угадывались развитые бедра зрелой молодой женщины. Обращались они друг к другу мать Аглая и мать Анастасия, и в этом тоже слышалась фальшь.
В зале, как они на крестьянский лад именовали большую комнату, красного угла не было, зато по стенам висели в рамках собачьи родословные и дипломы: с неподобающей духовным лицам суетностью они гордились собачьей породистостью. Что ж, дело было поставлено на широкую ногу, и на разведении собак они тоже зарабатывали. В передней комнате стоял большой круглый стол, за которым могла уместиться дюжина гостей, огромный телевизор и звуковая установка. Образа же, по всей вероятности, помещались в спальнях-кельях хозяек. Показали нам и мастерскую младшей на втором этаже: по обилию станочков, наборам тонких сверл, повсюду расставленным склянкам можно было решить, что попал в скромный ювелирный цех. Здесь же были и образцы ремесла Аглаи. Лара по светской обязанности все причитала, восхищаясь, всплескивала руками, обнимала и тискала мастерицу по-матерински талантливая девочка, самородок просто, такая необычная. Та чуть отстранялась, скупо усмехалась, светлые ее глаза оставались холодными. Ну, вам-то не нравится, обратилась она вдруг ко мне с той же недоброжелательностью, с какой встретила на вокзале. Я заверил, что очень нравится, отдав, впрочем, должное ее проницательности: от этого сладкого золотого китча на мой вкус несло расчетливой показной набожностью, а вовсе не простодушной верой.
На обед из города прибыли еще два гостя: заполошная толстуха, помощница мэра по культуре, сама сочинявшая песни и исполнявшая их под гитару, и молодой курчаво-бородатый румяный поп-блондин в будничном облачении, темной рясе, черной шерстяной накидке и лиловой скуфейке. Из застольного разговора, который направляла сестра Анастасия, выяснилось, что сестра Аглая теперь мало работает, потому что посадила глаза; и что отца Никифора сняли с соседского прихода, потому что владыка возревновал, и он теперь преподает в школе историю и нанимает квартиру в городе, на которой живет со своим послушником, студентом сельскохозяйственного техникума. Все это было рассказано с полнейшим простодушием. Что ж, в таком местечке, где милиционеры травят соседских овчарок, а содомский грех не грех, как было не разговеться. Тем более что на столе были и окорок, и балык, и крашеные яйца в плетеной вазочке, и пасхи, и куличи с глазурью, и граненый штоф настоянной на лимонной цедре водки. Монашки потягивали церковный кагор из поместительных лафетных рюмок, Лара тоже от крепкого отказалась — для нее открыли бутылку рислинга, мы же с батюшкой налегли на сорокоградусную, в чем нас поддержала дама из культпросвета, хоть и была за рулем — одну можно. Трапеза, впрочем, проходила скучно и скоро закончилась, поскольку чиновница, перед которой старшая определенно заискивала, забыла гитару, за что я был ей благодарен. Впрочем, я вам кассету перепишу, добродушно посулила она. Священник тоже стал откланиваться, говоря, что вечером у него встреча, Лару отправили прилечь после обеда. Я успел махнуть на дорожку лишь еще пару рюмок, как помощница мэра вызвалась довезти меня до гостиницы. Сговорились: на следующий день Лару и меня после завтрака повезут осматривать какие-то достопримечательности километрах в пятидесяти. После обеда я был благодушен, и на осмотр достопримечательностей с благодарностью согласился.
По дороге, занявшей минут десять, я узнал, что рядом с гостиницей есть единственный в городе ресторан, не считая гостиничного буфета и кабака на минской трассе, в мотеле. Что называется ресторан Трактиръ, и кормят там лучше чем у вас в Метрополе. Это могло бы показаться преувеличением, но, признаться, в Метрополе я так давно не был, что забыл вкус тамошней пищи. Кормили действительно превосходно, одно меню можно было петь под аккомпанемент ансамбля народных инструментов: и копченый угорь, и соленые рыжики, и буженина с чесноком, и щи по-новгородски, и мясная селянка в горшочке, и ледяная водка ста сортов с квасом с хреном на запивку, и рижский бальзам с кофе на десерт. И цены такие, что поначалу я подумал, уж не в долларах ли их здесь указывают. Жена мэра держит, пояснила моя провожатая, вы заказывайте, я только одну рюмочку, мне тут рядом. Выпила она три или четыре, перепоручила меня заботам официантки Татьяны и ушла. Я просидел до позднего вечера, брал, кажется, официантку, усталую женщину средних лет, за руку, уверяя, что теперь буду ездить к ней из Москвы обедать каждую субботу, и все спрашивал дорогу до своего отеля. Да наискосок, говорила Татьяна тоном, каким говорят с детьми, хоть я и сам помнил, что гостиница должна стоять напротив. На широкой площади мела поземка, и я сообразил, что в такую пору в таком местечке самое дело снимать с загулявших приезжих пальто. И все оглядывался пугливо на коммунистического идола — не гонится ли, хоть и пеший…
По причине атаки клопов, а также потому, что окна моего номера выходили не на площадь, а на автобусную станцию, где с пяти заводили двигатели, я почти не спал, не было шести — уже вышел из душа, оделся и решил пройтись по улицам просыпающегося городка. Как и по всей стране, этот населенный пункт еще в хрущевскую эпоху был застроен временными длинными трехэтажными бараками с канализацией и водопроводом, но время этих строений несколько десятилетий как истекло. Поэтому выглядели эти постройки, будто пережили недавно артиллерийский обстрел, ободранные, кривые, с забитыми по первым этажам фанерой окнами, с зияющими дырами чердачных отдушин. Были они такого гадкого цвета, как если бы всякий день их окатывали сверху помоями. На улицах повсюду как бомбовые воронки зияли ямы и провалы, полные мусором. В тех домах, что глядели фасадами на площадь, были на первом этаже магазины, в которых можно было купить кое-что съедобное: после семи я приобрел там флягу дрянного коньяка, шоколада и три апельсина. На одном из этих парадных зданий, напротив памятника большевистскому вождю, светились в утренних потемках огромные буквы рекламы известной по всей стране торговой фирмы по продаже бытовой электроники ЭЛЬДОРАДО. И представлялось, что не Ржавь или там Рвязь есть истинное название городка, но именно Эльдорадо, так победно светилась эта яркая вывеска, крупнее которой в поселении не было.