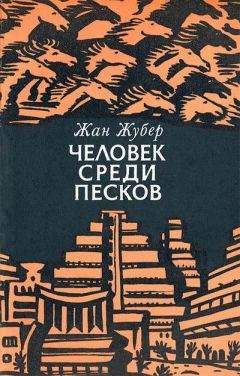— И все же вы мне нравитесь, — сказал он.
— И вы мне тоже, — вырвалось у меня в ответ.
— Ну что ж, это уже кое-что, — улыбнулся он.
Оба мы растрогались. Помолчали немного.
— Разрешите откланяться.
— Да, конечно-конечно, если вам угодно… Вас, наверное, ждут. Ну что ж, теперь мы знакомы, и нам, очевидно, представится случай еще увидеться.
Он легко поднялся с места, проводил меня до порога, протянул руку.
— Счастливого пути! Болота на закате на редкость красивы. Присмотритесь к ним. К тому же со вчерашнего дня на болотах у Пло появилась стая фламинго. Ваши спутницы знают об этом. И конечно, покажут их вам. Вот уже несколько месяцев, как фламинго не было видно. Если они покинут нас навсегда, это будет дурным предзнаменованием.
Я пересек пустынный двор, где уже пролегли длинные тени, и пошел по тропинке. У первого поворота, за тамарисковой рощицей, поджидали меня мои спутницы. Они не задали мне ни одного вопроса, и я тоже ничего не рассказал им о своем визите. Странно, но больше уже не было разговора о том, чтобы завязать мне глаза. Таким образом, я мог свободно любоваться закатом, который, как и обещал граф, оказался великолепным. Воду между тростниками оживляли лиловые отблески, а когда мы приблизились к лагуне, стая фламинго взметнулась ввысь, описав большую дугу, и на фоне заката вырисовывались черные силуэты птиц. Затем вся стая дружно сделала разворот, показав нам розовые крылья.
На другой день Дюрбен вернулся из столицы. Бледный, измученный. Левое веко нервно подергивалось.
— Ну что? — спросил я его, едва он появился.
— Новости неважные, — ответил он. — Я сейчас вам все расскажу. Ну и негодяи!
Он обошел всех. Бился до последнего, но дело обстояло гораздо хуже, чем он предполагал. Какая-то скрытая зараза охватила финансовые и политические круги: симптомы недуга он заметил даже среди своих друзей. Люди, очевидно, почуяли, что с Юга потянуло запахом наживы. Некоторые открыто говорили о выгодах, другие — о духе времени, о необходимости расширять сферы деятельности, иные же — зачастую это были одни и те же — о человечности и филантропии. На самом деле каждый уже точил зубы. Молочные повыпадали, и вместо них отросли клыки не хуже, чем у хищников.
Первоначальные проекты сочли теперь слишком скромными, уже готовились разработать новый план, который, как и следовало ожидать, посягал на заповедную зону. Дюрбен напомнил о прежних обязательствах. Но в ответ лишь пожимали плечами. И говорили о «конъюнктуре» и «внутренней динамике». К тому же, мол, коренные жители возликуют, узнав, что цены на их землю подымаются. Так что в проигрыше не будет никто!
— Это не так-то просто, — возражал им Дюрбен. — Вы их не знаете. Они дорожат своим образом жизни. Постарайтесь и вы их понять!
— Вот увидите, они изменят свои взгляды.
Дюрбен пытался объяснять, доказывать. Его вежливо выслушивали, обещали принять во внимание его мнение в частностях, но в главном он наталкивался на стену.
— Взгляните-ка на эти планы, — сказал он мне.
От Калляжа тянулись две заштрихованные зоны, похожие на гигантские крылья, раскинувшиеся вдоль побережья и уходившие своими концами в глубь края, Дюрбен указал на них пальцем:
— Здесь аэродром. Там жилые районы. Дальше промышленная зона. И повсюду — нефтяные разработки!
— Но ведь это еще окончательно не утверждено.
— Да. Это только проект, но его принимают серьезно.
— А сроки?
— Два, три года. Возможно, меньше. Но до этого надо построить Калляж. И вот тут-то я и держу их в руках, ибо на данный момент только я могу это сделать. И все же, если я выступлю против их проекта в целом, они не постесняются отделаться от меня. Желающих хватает, и они с нетерпением подстерегают каждый мой неверный шаг. Поэтому приходится хитрить, тянуть время, драться. Да, оставаться на своем посту, чтобы драться. А кому это под силу, кроме нас? Мы обязаны построить этот город, наш город!
Он сжал кулаки, его снова захватила страсть.
— А как здесь? — спросил он. — Все в порядке?
Я кратко отчитался ему в делах, а также рассказал о своем разговоре с графом, не уточняя, однако, обстоятельств нашего свидания. Дюрбен слушал меня, покачивая головой, но я чувствовал, что он слишком поглощен собственными мыслями и слушает невнимательно. Еще неделю назад он наверняка захотел бы поговорить с графом Лара. Но сейчас он был слишком утомлен и просто сказал:
— Да, мне следовало бы с ним повидаться, побеседовать. Мы это устроим, как только дела наладятся.
Но шли дни, нам приходилось хлопотать, прибегать к уловкам, обороняться, и было уже не до графа Лара.
Именно в то время произошло событие, поразившее воображение всего болотного края. Стадо быков примерно в сорок голов вслед за своим вожаком бросилось в канал и потонуло. На рассвете сторожа обнаружили их трупы, прибитые к плотине. И тут уж развязались языки. Здесь в быках знали толк: подобного еще никогда не случалось. Какой-то старик, правда, утверждал, что примерно такой же случай был в начале века, но при каких обстоятельствах, он не помнил. Говорил то одно, то другое. Просто выживший из ума старик, известный пустомеля. К тому же в его рассказе фигурировало не стадо, а всего несколько животных. Слушали его рассеянно и тут же забывали его россказни. Каждый понимал, что произошло нечто совершенно чудовищное, вроде таких ужасов, как, скажем, кровавый дождь, говорящие лошади, рана на солнце. Каждый предлагал свое объяснение. Тут были и паника, и жажда, и коллективный психоз, и землетрясение, и воздействие луны, но ни одно из этих объяснений не удовлетворяло людей, занимавшихся скотоводством испокон веков. Кто-то пустил даже версию о «летающих тарелках» и пожал известный успех. Так шаг за шагом добрались до Калляжа, хотя событие это произошло далеко от строительства. Наши подъемные краны, наши механизмы, загрязненная вода, распотрошенная земля, вечный шум, разносимый ветром, — всего этого вполне достаточно, чтобы благородные животные, привыкшие к безлюдью и свободе, взбесились. А ведь то, что губительно для быков, не может быть полезно для человека. Понятно, что все эти разговорчики мало способствовали нашим делам.
В харчевне меня встречали с кислой физиономией. Изабель обращалась со мной почти как с убийцей. Но в глазах Мойры я читал нечто большее, чем простое снисхождение. Должен признаться, что я никогда не был безразличен к чувствам, которые ко мне питают.
Я рассудил, что мне лучше в ближайшие дни не показываться в Лиловом кафе. Весь этот шум в конце концов утихнет. А к Мойре я могу съездить домой, и у нас найдутся иные сюжеты для беседы, кроме гибели быков.
Жила она на берегу лагуны в низеньком, крытом тростником домике, где поселилась после замужества, а теперь, когда муж погиб, осталась одна. Под тамариском на кольях висели полуистлевшие сети. Черная облезлая лодка стояла у причала.
Дверь хлева открыта, и меня обдает теплом и сладковатым запахом коровы и сена. В полумраке слышно мычание, позвякивание цепей и шорох крыльев летающих ласточек. Мойра доит корову, сидя на скамеечке и прижавшись щекой к коровьему боку. С этой темной шерстью совсем сливаются ее волосы, я различаю лишь ее застывший профиль, да мелькают руки, и о стенки железного ведра звонко ударяются струйки молока. Мойра не слышала, как я вошел. Она продолжает доить, прерываясь лишь для того, чтобы огладить корову, когда та беспокойно переступает с ноги на ногу, и ласково, вполголоса уговаривает ее.
Когда я окликаю Мойру, она оглядывается и, улыбнувшись, говорит:
— А, это ты? Я сейчас кончаю. Присядь вот тут!
Я пристраиваюсь на краю кормушки под свисающей с потолочных балок паутиной.
— Не обращай на меня внимания, — говорю я, — делай свое дело. Мне приятно смотреть, как ты работаешь. И к тому же я люблю хлев, еще с детства на нашей ферме. Узнаю знакомые запахи…
Мы потихоньку болтаем о том о сем, и по-прежнему звонко бьется молоко о стенки ведра. Она спрашивает меня, не хочу ли я парного молока. Затем берет из кормушки ковшик и, наполнив его до краев, протягивает мне.
— Ведь и это тоже, Мойра, мое детство, вкус моего детства. Я ничего не забыл. Я часто смотрел на мать и поражался ее умению. Да, помню, у нас еще говорили не доить, а «тянуть за соски». Я был совсем мальчонкой и ловкостью не отличался. Так что «вытянуть» ничего не умел.
— Хочешь я тебя поучу?
— Ну давай попробуем.
Я сажусь около нее, и она мне показывает, как захватить вымя всей пятерней, а не тремя пальцами, давить надо сверху вниз. Я чувствую нежную и теплую плоть в своем кулаке и колено Мойры, касающееся моего. Запах ее волос смешивается с запахом хлева и соломы.
— Вот так! — говорит она и направляет мою руку, но умения у меня не прибавилось, течет лишь тоненькая, как ниточка, струйка. — Так! Нажимай сильнее. Вот видишь, теперь получше!