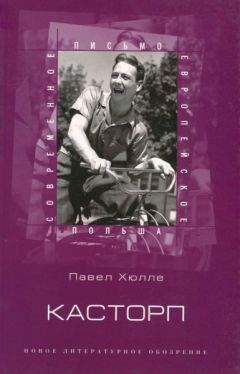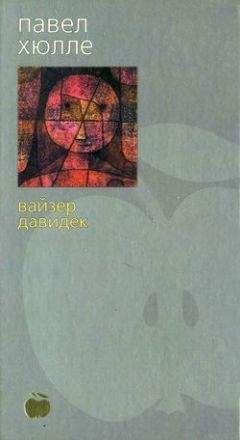Доктор, кивком поздоровавшись, пригласил пациента в кабинет, но вместо того, чтобы усадить его в кресло или уложить на кушетку, деликатно взял под руку и подвел к эркеру. Трамвай тронулся, а собачник, накинув бездомному псу на шею петлю, потащил несчастную жертву в фургон.
— Вы знаете этих людей? — спросил доктор. — Например, господина с бородкой, или вон того, в красном шарфе, или женщину в меховой шапке?
— Этот, в красном шарфе, — Ганс Касторп приблизил лицо к окну, — мой сосед. В некотором смысле сосед. Эдуард Кригер, Каштановая, 10. Главный специалист на военной судоверфи. Проводит с нами занятия. Других не знаю.
— Вот как, — доктор Анкевиц был несколько удивлен. — Я не это имел в виду, господин…
— Касторп, Ганс Касторп.
— Я не это имел в виду, уважаемый господин Касторп, присядьте, пожалуйста, так вот, я только хотел показать вам, что каждый из прохожих, каждый из тех людей, кого мы ежедневно во множестве встречаем, — словом, каждый из нас обременен какими-нибудь проблемами — духовными, психическими, психологическими. Это норма, тут нет ничего необычного. Ненормально обходить эти проблемы, скрывать, загонять внутрь, именно так возникают психозы, неврозы, критические состояния, войны, революции и тому подобное…
Говоря «и тому подобное», доктор Анкевиц очертил правой рукой в воздухе несколько кругов.
— Понимаю. Вы хотите меня убедить, — Ганс Касторп опустился в кресло, — что ничто человеческое нам не чуждо. Да. Я пришел с очень простой проблемой.
— Разумеется, — доктор уселся за письменный стол. — Слушаю. Вас ведь что-то беспокоит… С определенной точки зрения все проблемы простые.
— У меня неважно со сном.
— Поточнее, пожалуйста.
— Не могу спать.
— Понятно. Но меня интересуют подробности. Вам трудно засыпать? Или вас будят какие-то кошмары и тогда вы не можете снова заснуть?
— Именно так, но без кошмаров. Просто я просыпаюсь через час, от силы два, и до утра уже не могу сомкнуть глаз. Иногда несколько ночей кряду. Зато на лекции или в трамвае глаза так и слипаются. Раньше я мог читать два, три, четыре часа. И что-то записывать. Теперь, случается, прочитав несколько страниц, я забываю, что было на первой. Когда выхожу из дому, три раза проверяю, взял ли ключи. А вообще, — Касторп на секунду заколебался, — я стараюсь как можно реже выходить из дому. То есть предпочитаю не покидать свою комнату.
— И что же вы тогда делаете, позвольте спросить? О чем думаете?
— Мне очень трудно это объяснить. Можно ли думать ни о чем? Я лежу в кровати и смотрю в окно. Или в потолок. Иногда полистаю старую газету — раньше я покупал газеты каждый день, а теперь даже этого не хочется. Все меня раздражает. Мучает. Видите ли, доктор, я здесь не завел никаких знакомств, никаких близких знакомств. Но прежде не прочь был выпить пива с однокашниками в «Café Hochschule», о чем-нибудь поболтать. Сейчас даже на это нет охоты. Если бы я мог нормально спать… Вот об этом я и хотел вас попросить, какое-нибудь легкое средство…
— Снотворное, — докончил доктор Анкевиц. — Легкое снотворное, вы это хотите сказать, да?
— Именно за этим, и только за этим я пришел, — Ганс Касторп выпрямился в кресле, словно беседа подошла к концу. — Порошок или капли, все равно.
— Ну конечно, я выпишу рецепт. Но вы прекрасно понимаете, — доктор встал и, подойдя к эркеру, поглядел на улицу, — что всякое отклонение от нормы требует устранения причин. А вам хочется сразу устранить следствие. Как кратковременная мера это возможно. Разумеется. Ваше состояние ведь нельзя назвать очень тяжелым. Вы не больны. Это всего лишь небольшое недомогание. Временное. Если я правильно оцениваю ваш образ жизни, питание, алкоголь, табак, кофе — все это не выходит за пределы разумной нормы. Словом, причина в чем-то ином. Но вы не хотите ее касаться. Даже думать о ней не хотите, не говоря уж о том, чтобы поделиться с кем-нибудь посторонним, не заслуживающим вашего доверия.
— Не понимаю, к чему вы клоните, доктор.
— Отлично понимаете. Сами минуту назад употребили слова «раньше» и «теперь». В промежутке что-то должно было случиться. На самом деле или в воображении. Возможно, вы что-то вспомнили. Вас это мучает, преследует, и вы требуете капель. Они, конечно, помогут. Но ненадолго.
— Вы полагаете, я должен открыть вам душу? Или, как вы это называете, подвергнуться психоанализу? Поверьте, я принадлежу к разряду людей, которые к таким новомодным вещам испытывают отвращение.
— А кишки! Внутренности! Плазма! Потроха! Кровь! Кал! Моча! Слюна! Семя! Это у вас не вызывает отвращения? Если бы у вас был понос, вам пришлось бы по крайней мере описать врачу свой стул. А я — прошу прощения — предлагаю, чтобы вы просто сказали, что произошло перед тем, как вы потеряли сон. Вот и все, господин Касторп. Кто вам наплел такую чепуху? Открыть душу? Психоанализ? Да мне-то какое дело? Врача интересуют факты. Я хочу вам помочь, но без вашего содействия у меня ничего не получится. Ну ладно, короче, что вы предпочитаете: капли или порошки?
С этими словами доктор Анкевиц снова сел за стол и достал бланк рецепта. Когда он потянулся за пером с янтарной ручкой, Касторп вынул из кармана пиджака портсигар, а из него — «Марию Манчини».
— Я могу закурить? — спросил он. — Не вижу тут пепельницы.
Еще никогда в жизни ему не доводилось так много о себе говорить. Его необычайно смущало, что он находится в центре этой истории как главное действующее лицо, как виновник случившегося и, наконец, интерпретатор, поскольку, хотя он инстинктивно избегал оценок, время от времени у него вырывалось что-то вроде: «я посчитал, что так будет правильно» или «пожалуй, это было неуместно». Начало, однако, далось ему легко, ибо, закурив сигару, он приступил к рассказу с поисков «Марии Манчини». Труднее оказалось пересказать памятный сон о незнакомке, прикасающейся к его затылку в детской, а также видение (такое он употребил слово) заснеженных горных вершин прямо рядом с городом над заливом. Поскольку все это читателю уже известно, отметим только, что Касторп — несмотря на внутреннее сопротивление — героически справился с этой нелегкой задачей, не опустив даже воспоминаний о своем несчастном отце и размышлений о музыке.
Едва он добрался до той ночи, когда читал «Эффи Брист», доктор Анкевиц, не говоря ни слова, достал из аптечки бутылку превосходного французского коньяка, налил по изрядной дозе живительной влаги в две пузатые рюмки, вручил одну Касторпу, легонько с ним чокнулся и, воспользовавшись тем, что Касторп поднес свою рюмку ко рту, деликатно его перебил:
— Стало быть, именно после этой ночи вы стали плохо спать?
Пациент было возразил, но тут же признал, что неприятности, пожалуй, начались именно тогда.
— «Эффи Брист» я прочел примерно в середине ноября, а первый кризис, то есть, я хотел сказать, первая бессонница случилась в декабре, сразу после похорон канцеляриста.
— Канцеляриста? — доктора Анкевица, видимо, удивил новый сюжет. — Это кто-то из ваших близких?
Тут потребовались сложные объяснения: когда Касторп увидел на доске объявлений некролог, сообщающий о «трагической смерти преданного академическому сообществу сотрудника», в вестибюле шептались, будто некий Пауль Котский, занявший место канцеляриста, в какой-то мере послужил причиной его самоубийства. Старика нашли на чердаке его маленького кирпичного домика: он болтался на бельевой веревке, якобы с приколотой к рукаву короткой, написанной от руки на двух языках запиской: «Дольше я этого не вынесу!» Речь будто бы шла об интригах — Котский, несмотря на польскую фамилию, поляком не был и так отравлял жизнь канцеляристу Нойгебауэру из-за его польского акцента, что тот в конце концов не выдержал и покончил с собой. Церковь сочла эту смерть «несчастным случаем», а Касторп, которого суть дела не очень интересовала, пошел на похороны из чувства долга. Ведь канцелярист был первым, кого он встретил в будущей alma mater сразу после приезда. Каково же было его удивление, когда на загородном кладбище, кроме Хуго Виссмана, помощника покойного, который нес за гробом скромный венок от Императорско-королевского высшего технического училища, он не увидел больше никого из политехникума. А среди окруживших открытую могилу родственников канцеляриста, стоявших двумя отдельными группами, уловил нешуточное напряжение.
Когда священник запел по-латыни, когда гроб соскользнул вниз, а провожающие покойного — те, что стояли слева, — принялись кидать в могилу комья земли и цветы, от второго полукруга, безмолвного и неподвижного, отделился невысокий мальчуган. Касторп сразу его узнал. Это был владелец модели «Пауля Бенеке», тот самый, что у запруды близ казарм произнес, обращаясь к нему, непонятную фразу и юркнул в заросли лопухов. Теперь, вполне прилично одетый, он бросил комок земли на гроб деда и вернулся обратно, но за этот поступок немедленно поплатился: какая-то женщина — то ли мать, то ли тетка — отвесила ему звонкую оплеуху, а он заплакал и стал кричать по-немецки: «За что? За что?»