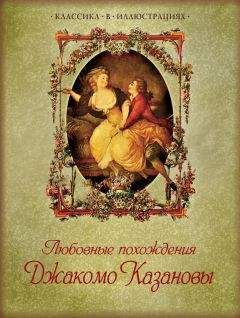Они и не волновались.
Они просто не явились ни завтра, ни послезавтра за деньгами, вообще никогда.
Их, воров, почти всех отловили менты; а один утонул в зимней проруби, пошел с другом на подледный лов — лед под ногой и поехал, и булькнулся он в ледяную, черную реку, и сразу с головой ушел, не спасли.
И пьяненький мужичонка, с этим стволом, то ли газовым, то ли газобаллонным, да из него тоже ж убить-то можно, спокойненько причем, то ли нормальным, с патронами и настоящими пулями, он и сам не знал, да разве ж он смог бы его попробовать — и на ком? на псе соседском, блохастом? — не знал, что ж делать-то: то ли ждать пропавших воров, то ли продавать ствол самому.
Душа неистово желала спиртного.
А тут продавцы, Ванька, наверное, кто ж еще, парня прислали.
И морда у парня такая… просящая.
На жалость бьет. Деньги смешные. В кармане мнет.
Но ведь эти-то пропали! Точно, замели их, мать-ть-ть…
А выпить очень хочется.
Мужичонка, трясясь всем телом от радости, и отдал Оське пистолет.
И Осип — взял, тоже от радости трясясь.
Они оба тряслись от радости.
Потные бумажки перетекли из юных рук — в старые, костлявые руки.
4.
Кот, а помнишь, как мы веселились?
Как ты веселился! И нас веселил.
За одну только радость, что ты дал людям, я буду за твою кошачью душонку молиться: пусть моему коту на небесах будет хорошо!
Я не знаю, грех ли это, за зверя молиться. Но я молюсь, провались все на свете. И молиться — буду. Не запретишь.
Ты был отличный мышелов. У нас в мастерской водились мыши. Иной раз и крысы приходили, противно, ужасно верещали за картонной стенкой. Кричали, как обиженные дети: «У-а-а-а! Уи-и-и-и!»
Ты был силен и молод, Марс. Ты выходил на ночную охоту. Ты ловил мышей и играл с ними, слегка придавливая зубами; натешившись, приносил уже неподвижную, уже мертвую — от страха мертвую — мышь к ногам мужа, мрачно сидящего в старом кресле перед начатой картиной. Клал мышь, вываливал из зубов на пол. На, мол, хозяин, подивись, какой я ловкий! И я тебя угостить пришел, вот.
Муж улыбался волей-неволей. Нельзя было не рассмеяться. Кот сидел как вкопанный, мышь лежала на полу. Кот ждал благодарности.
Муж брал его на руки, тяжелого, пушистого, молодого полосатого тигра, и чесал ему за ухом. И Марс запевал песню.
Он пел, мурчал, фыркал на всю мастерскую. Это была песня любви и победы.
Так он изловил и сложил к ногам нашим тринадцать мышей.
Тринадцать, я иногда думаю: двенадцать и одна, может быть, у мышей, у кошек, у зверей есть свои учителя и ученики, свои святые и грешники? Свои — боги?
Кто такая на земле бессловесная тварь, если мы не можем ее понять, если она глядит нам в глаза так смиренно и жалко и любовно, и она-то нас — понимает?
Она. Нас. Понимает.
А мы — ее — нет.
Вот где ужас. Вот где — меч нас разрубил.
Навек?
А может, придет еще время, и мы…
…и мы обнимем друг друга в саду, где на ветвях пахучие цветы, и абрикосы и помидоры и золотые яблоки и земляника вперемешку, и тигр сядет у ног, мурлыкая нежно, и лев будет тереться кудлатой головой о щиколотки, и жираф, ломая башенную шею, есть из ладони, и черная пантера, моргая синими, как сапфиры, глазами, разрезом похожими на персиковые косточки, будет читать чужие печальные мысли и улыбаться белыми, снежными зубами, и с языка ее, розового, как рассвет, будет капать радостная сладкая, как мед, слюна?
И кот наш, милый кот, первенец, полосатый, сибирский, спокойный, как царь, Марс, Марсик, Марсюта, живой и невредимый, будет в том саду сидеть у меня на плече, — а напротив нас будет стоять Осип, и в руке у Осипа будет дрожать, как живой, пистолет, и кот засмеется, как человек, и человечьим голосом скажет: «Брось пистолет, Ося, брось, тебе говорю». И Осип, дрожа, как в болезни, как от озноба, швырнет пистолет, бросит далеко от себя, — и треснет, сломается он, железный, и раскатятся по нежной траве, как по ковру, медные пули, и сядет Осип на корточки, согнув спину, уткнет лицо в ладони, — а кот с моего плеча, вцепляясь мне в кожу живыми когтями, скажет, и слышно на весь сад цветущий будет: «Я тебя прощаю».
И будет кот глядеть, как плачет человек.
И буду я…
5.
Закрываю глаза — и вижу.
Лучше бы этого не видеть.
Но вижу все равно.
Они были все уже пьяные в дым. На ногах не стояли. Трезвей всех был Культпросвет. Он еще владел собой. Остальные уже плавали в полутемной комнате, как в аквариуме, и сизый, синий дым плавал между шкафов, полок и бутылок вместе с ними.
— Т-т-ты-ы-ы-ы… Ска-жи-и-и-и!..
— Я т-т-т-тебе щас скажу-у-у-у… у-у…
— Да попаду!.. да с одного… раза-а-а-а…
— А!.. врешь…
— Встань!.. Возьми в рук-ку буты-ы-ы-ы…
— Я что, с ум-а-а-а?!.. сошел…
Они были пьяны в дым, и они передавали пистолет из рук в руки, как священную игрушку, как тотем, как великий царский знак власти; да, это сейчас — и навсегда — была их власть, их победа, их смерть, что для них важнее жизни, — и тяжесть оружия оттягивала руку, и они наслаждались, да, по правде наслаждались этой тяжелой, железной смертью в юной руке. Возьми ты!.. Нет, возьми ты. Подержи, дурак. Ах-х-х-х, какой красавец!.. Т-т-т-т-ты… Ну дай… Не дам. Я сам хочу. Выстрелить? Да легко! Ах ты стрелок! Да, я стрелок. Я! Да-а-а-а! Я великий стрелок!
Ну т-т-т-ты и вра-а-а-ать… Я?! Вра-а-ать?! Да я… в движ… в движу… в движущую… мише-е-ень… В движущую-ся, грамоте-е-ей! Хеха-а-а-а!.. В дви… насрать!.. Дай! Да-а-а-а-ай!
Ну ты… локтем-то в рожу мне заче-е-ем!..
Ничо твоей драгоценной роже не-е-е-е…
Дай!
На…
Их руки были жадные. Их глаза были жадные. Они хотели стрелять. Они хотели стрелять не только в картонную перегородку; не только в вазу на старом обшарпанном пианино; не только в глаз человека-собаки, нарисованной Осипом и Культпросветом на бессмертной картине «Человек-собака на фоне рейхстага». Они хотели стрелять в живое. В то, что движется, бежит… убегает.
Убегает — от смерти.
А смерть такая быстрая. Смерть быстрее, чем жизнь.
И они — властелины смерти. Хочу — подарю жизнь! Хочу — отниму! Разве это не…
Это же счастье-е-е-е! Это ж такой балде-о-о-ож! Ка-а-а-а-айф! Супе-е-е-е-ер!
Я вижу все. Но крики усиливаются, и дым густеет. И в общей свалке молодых, зверьих тел и перекошенных потоками дешевой водки лиц я не различаю, кто у кого выхватил пистолет.
Кто навел дуло. Осип. Белый. Культпросвет. Кузя. А может, Зубр. Я этого уже никогда не увижу.
И хорошо. И это благо. Это очень, очень хорошо. Мне не надо этого видеть. Не надо никогда.
Но то, что я вижу — я вижу ясно.
Я вижу — распахивается форточка. Стукает стекло, громко так: тук! — и трескается. Я слышу шум и шорох. Это кот домой возвращается, прыгает в форточку и грузно валится на подоконник, на все четыре лапы. Он гулял. Он весь в репьях и щепках. У него довольная, радостная, широкая, как подушка, полосатая морда. Зелень глаз изумрудная. Изумруд раньше называли — смарагд. Смарагдовые глаза. Смородиновые глаза. Кры-жов-ни…
Кот прыгает на пол. Тот, у кого в руках пистолет, наставляет на кота дуло.
Дуло слишком близко к коту. Кот слишком рядом, он почти под пистолетом.
— С такого… ик!.. расстояния… слепой… ик!.. попадет…
Это Белый. Ага, стреляет не Белый. Стреляет другой. Не вижу. Вижу?!
— Ты че, пацан, в натуре?! Ты охерел?! Это ж зверь! Это ж живой зверь! Да его щас…
— ТВОЙ ЗВЕРЬ.
Кто это сказал? Таким ледяным, трезвым голосом? Кто? Я сама?
Но меня же тут нет. Нет меня!
Кот поднимает было радостную, гуленую, исцелованную соседскими кошками морду к тем, кто качается в мареве дыма — и чует неладное. Он пришел домой! И не домой. «Надо бежать», — мелькает зеленая молния в его внезапно ставшими дикими, настороженными, крупных, ягодных глазах. Он собирается. Он пятится. Он…
Дуло следит за ним. Дуло ведется туда, куда кот идет.
В глазах кота собирается, загорается ярко-золотыми точками свет. Я вижу этот свет. Я понимаю: это свет прощания. Кот понял: они все пьяны, они опасны, они все — смерть, и бесполезны здесь мяуканья родства и ласка, об ногу башкой потереться, хрюканья и царапанья, просьбы и прощенья. Ничего этого уже нет. И не будет.
Чужое, страшное логово, читаю я в глазах кота. Страшное. Здесь смерть. Надо бежать. Надо драпать! Прыгать! Форточка — открыта!
Дым уползает, улетает в форточку, в ночь и тьму.
— Дви-жу-ща-а-а-а… я-а-а-а… ся-а-а-а…
— Стреляй!
Я слышу крик. И я не вижу, кто кричит.
Кот прыгает. Полосатое, сильное тело пружинит. Дуло вздергивается, как башка змеи.
Занавеска отлетает. Задние ноги кота вязнут, путаются в занавеске.
Глотка чья-то истошно вопит:
— Ты дура-а-а-ак!
И хлопок. И кот, внезапно обмякнув, как куль, падает.
Цепляясь когтями за занавеску.