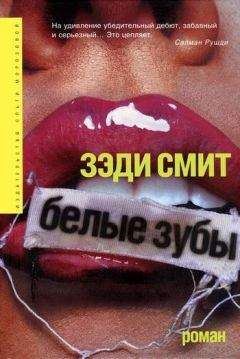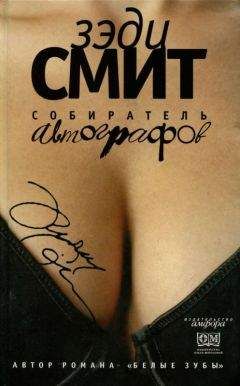- Нуда. Я пришел на вечеринку.
Теперь Карл держал мяч между ладонями, и Говард увидел, как в свете сенсорного фонаря круглятся его ладные, сильные руки.
- Да, но это закрытая вечеринка.
- Леви тут живет? Я его друг:
- Вот оно что. Знаешь, он… - Говард обернулся, делая вид, что высматривает сына в прихожей. - Его сейчас нет. Как тебя зовут? Я ему передам, что ты был.
Мяч с силой ударился о ступеньки, Говард отпрянул.
- Послушай, - грубо сказал он. - Я не хочу быть невежливым, но Леви не должен был приглашать на сегодняшний вечер своих… друзей. Это вечеринка для узкого круга знакомых.
- Ясно. Для поэтических поэтов.
- Что?
- Забудьте. Я не знаю, какой черт меня сюда принес.
Гордым, стремительным, пружинистым шагом он промахнул дорожку и исчез за калиткой.
- Эй, постой! - крикнул ему в спину Говард, но тот уже ушел.
Невероятно, подумал Говард, закрыл дверь и отправился на кухню за вином. Там он снова услышал звонок - открыла Моник, люди вошли, за ними другие люди. Говард налил себе вина - звонок. Эрскайн и его жена Каролина. Он заткнул бутылку пробкой - в прихожей шумела, раздеваясь, еще одна толпа. Дом заполнялся людьми, чужими ему по крови. Говард начал входить во вкус и вскоре уже уверенно играл роль души общества: предлагал еду, разливал напитки, расхваливал своих упрямых, невидимых детей, исправлял цитаты, ввязывался в споры, дважды и трижды знакомил между собой гостей. За время каждой из бесчисленных трехминутных бесед он успевал проявить интерес и участие, побыть виновником торжества и поборником идеи, посмеяться над вашей остротой прежде, чем вы успевали ее отпустить, и наполнить ваш бокал, невзирая на пузырьки у его края. Застав вас за разыскиванием или надеванием плаща, он разражался мольбой покинутого влюбленного. Вы жали его руку, он жал вашу, - так вы и качались вдвоем, как матросы. Но вот вы осмеливались подколоть Говарда его Рембрантом - в ответ он выстреливал в ваше марксистское прошлое, группу плодовитых виршеплетов или одиннадцатилетнее копание в трудах Монтеня, но так добродушно, что вы не принимали это на свой счет. Плащ был снова забыт на диване. А когда вы опять заводили речь о неотложных делах со вставанием ни свет ни заря и выходили-таки за порог, вас посещало новое отрадное чувство, что Говард Белси не только не презирает вас, как вы всегда считали, но, напротив, тайно и безгранично вас обожает, и лишь природная английская сдержанность не позволяла ему выказать вам это вплоть до сегодняшнего дня.
В полдесятого Говард решил, что пора бы произнести перед собравшимися небольшую речь в саду. Общество не возражало. В десять упоение ролью бонвивана залило аккуратные уши Говарда - они покраснели от удовольствия. Ему казалось, что вечеринка удалась на славу. В действительности это было типичное веллингтонское торжество: боишься, что в доме будет не продохнуть, но до аншлага дело не доходит. Аспиранты кафедры африканистики пришли чуть ли не в полном составе, главным образом, потому что они не чаяли в Эрскайне души, а также потому что в Веллингтоне они были самым светским народом, гордившимся репутацией существ, наиболее приближенных на кампусе к нормальным. Они умели и просто поболтать, и сболтнуть лишнего, собрали у себя на кафедре фонотеку черной музыки, слыли знатоками современного телевизионного мусора и могли о нем красноречиво рассуждать. Их всегда на все приглашали, и они всегда на все ходили. Кафедра английской литературы была представлена куда скромнее: Клер, марксист Джо, Смит и горстка обожательниц Клер, которые забавляли Говарда тем, что, как лемминги, поочередно кидались на Уоррена. Уоррен явно входил в список вещей, одобряемых Клер, вот они на нем и висли. Стая таинственных юных антропологов - Говард их, похоже, не знал - весь вечер вилась на кухне над едой, предпочитая места обитания стаканов, бутылок и закусок. Говард предоставил их самим себе и вышел в сад. Счастливый, он шел по краю бассейна с пустым стаканом в руке; вверху, за рдеющими облаками, скользила летняя луна; вокруг раздавался приятный, полнокровный шум бесед на свежем воздухе.
«Какой странный день для вечеринки», - услышал он чей-то разговор. «А по-моему, в самый раз, - последовал ответ. - Белси празднуют день в день, понимаете? Если мы не реабилитируем дату, то вроде как они победили. Это реабилитация…»*
Таков был главный диалог вечера. После десяти, когда вино ударило в голову, сам Говард участвовал в нем раза четыре. До десяти эта тема не затрагивалась.
Примерно каждые двадцать секунд Говард наблюдал, как поверхность бассейна взрывают пятки, потом всплывает островок спины и стройное, темное тело быстро и бесшумно идет в воде на следующий круг. Видимо, Леви решил, что раз уж он обречен на эту вечеринку, он совместит ее с тренировкой. Сколько он так плавает, Говард точно сказать не мог, но, когда он закончил речь и гул аплодисментов стих, все вдруг заметили одинокого пловца, и почти каждый повернулся к соседу с вопросом, помнит ли он рассказ Джона Чивера**. Профессора не очень друг от друга отличаются.
- Жаль, я не взяла купальник, - громко сказала кому-то Клер Малколм.
- Вы разве стали бы купаться? - благоразумно возразили ей.
* По-видимому, годовщина свадьбы Говарда и Кики приходится на 11 сентября.
** Чивер, Джон Уильям (1912-1982) - американский писатель. Имеется в виду его рассказ «Пловец», герой которого отказывается принимать обрушившиеся на него беды, вытесняя память о них экстравагантными выходками, в частности, решая отправиться до своего дома вплавь через бассейны его бывших друзей и знакомых.
Хотя крайней необходимости в этом не было, Говард хотел найти Эрскайна и спросить, как тому понравилась его нынешняя речь. Он сел на уютную скамеечку, поставленную Кики под яблоней, и стал рассматривать своих гостей. Вокруг толпились женщины с широкими спинами и мощными ногами, совершенно асексуальные. Медсестры, решил Говард. Интересно, как эта самоуверенная, неуниверситетской закваски, тяжеловесная команда Кики восприняла его речь? И как ее, собственно, восприняли все прочие? Произнести ее было нелегко. По сути это были три речи. Одна для тех, кто знает, одна для тех, кто не знает, и одна для Кики, которой адресовались его слова и которая знала и не знала одновременно. Незнающие улыбались, гикали и хлопали, когда Говард говорил о плодах любви, томно вздыхали, когда он рассуждал о радостях и трудностях семейной жизни с тем, кто стал тебе самым близким другом. Поощренный вниманием своей подлунной аудитории, Говард отошел от первоначального сценария. Он напомнил, как высоко ставил дружбу Аристотель, и дополнил его мысли собственными. Сказал, что дружба порождает терпимость. Описал безответственность Рембрандта и готовность к прощению Саскии, его жены. Это была игра с огнем, однако подавляющая часть слушателей нездорового интереса к его лирическим отступлениям не выказала. Он боялся, что знающих будет больше. Но Кики, несмотря ни на что, о его подвигах всему свету не раструбила, и сейчас Говард был ей за это благодарен как никогда. Он закончил речь, и аплодисменты окутали его, как уютный, мягкий плед. Он сгреб за плечи двух своих американских детей, оказавшихся в зоне досягаемости, и сопротивления не почувствовал. Значит, не все потеряно. Его измена не конец света. Это и умаляло, и возвышало его в собственных глазах. Жизнь текла своим чередом.
Джером первый доказал ему: мир из-за твоих любовных катаклизмов не рухнет. Сначала Говард так не думал. Сначала он был в отчаянии. Ничего подобного с ним раньше не случалось, и он не знал, что делать и как быть. Когда он все рассказал Эрскайну, ветерану супружеской неверности, тот снабдил его простым и старым как мир советом: отрицай все. Это была давнишняя тактика самого Эрскайна, которая, как он уверял, никогда его не подводила. Но Говарда поймали с поличным самым что ни на есть классическим способом: Кики нашла в его кармане презерватив и предъявила его Говарду, держа находку двумя пальцами и излучая убийственное презрение. В тот день он мог поступить по-разному, но правду говорить было нельзя - правда исключалась сразу, если, конечно, он хотел и дальше вести хотя бы подобие излюбленного им образа жизни. Время показало, что он принял правильное решение. Правду он оставил при себе. Вместо правды он сказал то, что, с его точки зрения, было нужно для сохранения круга друзей и коллег, этой семьи и этой женщины. Видит бог, даже придуманная им история об одной-единственной ночи с незнакомкой нанесла неслыханный урон, разомкнув волшебное кольцо любви Кики, которое окружало его столько лет и благодаря которому (к чести Говарда, он отдавал себе в этом отчет) он жил так, как жил. А скажи он правду - беды обрушились бы на него лавиной. В итоге под удар были поставлены отношения с несколькими ближайшими друзьями: тех, с кем успела поговорить Кики, поведение Говарда покоробило, и они прямо сказали ему об этом. Нынешняя вечеринка давала возможность выяснить, что друзья думают о нем год спустя, и, обнаружив, что он выдержал испытание, Говард готов был разрыдаться перед каждым, проявившим к нему снисходительность. Общий вердикт был таков: Говард допустил нелепую ошибку, и не стоит лишать его (профессура средних лет не закидывает грешников камнями) такого подарка судьбы, как счастливый и страстный брак. До чего же они любили друг друга! Все думают, что любовь - удел двадцатилетних, но Говард знал любовь и в сорок лет, настоящую и томительную. Он до сих пор не мог привыкнуть к лицу Кики. Оно служило ему постоянным источником радости. Эрскайн частенько подшучивал над ним - говорил, что таким теоретиком, таким противником живых наслаждений, как Говард, может быть только мужчина, получающий всю полноту удовольствия дома. Сам Эрскайн был женат во второй раз. Почти все, кого знал Говард, уже пережили развод и начали новую жизнь с другими женщинами. «У нас с ней перегорело», говорили они, как будто брак - это вязанка дров. Неужели и с ним случилось то же самое? Неужели и у него с Кики перегорело?