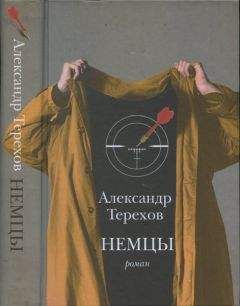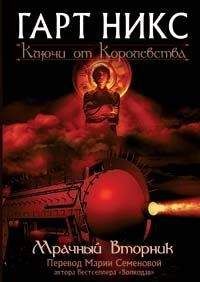Следом, одним днем задумалась о своем будущем и «всё для себя решила» Сухинина, сидевшая на социалке, и уступила кресло отставному генералу МВД — тот проводил страшные совещания с директорами школ, кричал: «Я не дам воровать!», часами сидел один, глядя на совершенно пустой стол, и через месяц уволился; его сменила «поискавшая себя в коммерции» Золотова, говорили, монстру она троюродная сестра, и тоже взялась кричать — за два месяца из ее управлений уволились четырнадцать человек. Умный начальник юруправления Сева Лучков быстро поступил в аспирантуру и собрал справки о хронических заболеваниях; монстр давил: «Подставить меня хочешь? Это что за кидок? Я тебе не разрешаю уходить! Я прослежу: никто тебя не возьмет!» — но Сева вырвался и сменил телефон; в его кабинет заехал полноватый неулыбающийся господин, нигде не работавший больше года, говорили: «передвигает его контора»; уволили начальника управления экономики, Кочетову, век отслужившую «на приеме населения»; Гарбузова из общего отдела ушла сама, как только монстр второй раз запустил в нее принесенной почтой.
Новые люди — они смеялись вместе с прежними в буфетных очередях, поздравляли равных по должности с днями рождения, показывали фотографии детей и собак и выглядели обычными, единокровными, теплокровными млекопитающими, потомством живородящих матерей — как все, но никого это не обманывало: упаковывались они отдельно, между собой говорили иначе (или казалось испуганным глазам?), улыбались друг другу особо, уединялись, припоминая общее прошлое (где это прошлое происходило? когда?), отстраненно замолкали, как только речь заходила про монстра; владели будущим, жили уверенно, они — «на этом» свете, а префектурные старожилы оставались «на том»; новые знали «как»: не поднимали на префекта глаз, вступали в его кабинет на цыпочках (Марианна показывала желающим — как), крались до ближайшего стула, неслышно присаживались и глядели в стол, помалкивали (и все теперь старались так же), когда префект спрашивал, быстро переходя на мат и бросание подручных предметов. Новых объединяло происхождение, не дающее себя для определения уловить, не сводимое к буквам ФСБ, к слову «органы», что-то более глубокое, близкое к человеческой сути, наличие каких-то избранных, меченых клеток в многоклеточном организме, позволивших оказаться в восходящем потоке.
В понедельник вечером оповестили: завтра после правительства монстр вернется в префектуру и соберет «трудовой коллектив» в зале заседаний в семнадцать часов для «разговора»; монстр дозрел представиться уже без нянек, поручителей и поводырей, доказав провокаторам в правительстве, что хозяйство принял и теперь — рулит.
С утра Эбергарду не давались мелкие движения: зубная щетка не попадала, возвращаясь, в стакан, бритва покорябала кадык, пуговицы не шли в прорезь, шалили лифтовые кнопки, ласковая веточка у подъезда зацепила и сбросила шапку с головы; в такие утра сразу думаешь: чем-то кончится этот день? — и оглядывался: надо запомнить — женщина греет автомобиль, зачерпывает из сугроба снег и сеет на лобовое стекло, опять берет снег горстью и бережно несет — как птичье гнездо с яичками в крапинку. Павел Валентинович обернулся: в префектуру? — машина летела с ровным остервенением, как мчатся машины, вырвавшиеся из тоннеля или из пробки, никого не подбирая, мимо воздето голосующих рук, нагоняя и обгоняя автобусы, стоймя перевозившие людей.
Эбергард всё смотрел — как девчонки целуются на остановках, а мальчики выдувают пузыри жвачки — воздушные шарики, которые должны перенести их в Америку, на светофоре заглядывал в соседние машины, как в окна спален, — в них женщины красили губы, в утренней тьме на выходящих из земли коленом и уходящих под землю углом трубах сидели вороньи бомжи под таинственными объявлениями «Демонтаж гидроклином, алмазная резка бетона».
Собрались заранее и в безмолвии ожидали — внизу, под сценой (где во время окружных мероприятий располагался секретариат, поглощавший записки с уводящими от основной темы обсуждения мелкими, частными вопросами и личными эмоциональными выпадами и необъективной информацией и запускавший записки с действительно важными, хоть и неожиданными и даже острыми вопросами, на которые префект всегда находчиво, убедительно и не без юмора отвечал и даже извинялся за допущенные ошибки) приготовили столик для монстра и явно свежекупленное кожаное кресло — без микрофона; торчать посреди огромной сцены и говорить в микрофон, следя, чтобы губы находились на равном расстоянии от звукоусиливающего устройства, монстр не пожелал.
Вот — зашли охранники, хмуро оглядели зал, задрав подбородки, так высматривают по углам знакомых, что «обещали быть», и расселись в первом ряду, вот — появился префект, слегка задумавшись на входе: здороваться? нет? — за ним ввалился помощник Борис Юрьевич, как всегда — ручищи слегка в стороны, словно намочил их и теперь сушит, последним вплыл начальник организационного управления Пилюс, теперь не отходивший от помощника префекта, охранников и водителя монстра. «Он как-то смог», — с болью подумал Эбергард, но успокаивал себя: нет, не обязательно добегает первым, кто первым побежал. Что может Пилюс? Курить с охранниками, провожать префекта до туалета, лизать ягодицы — ничего не значит; мало ли что он ходит следом, пускай, места вокруг монстра много, всех не задвинет, всё не вылижет, мало ли что ненавидит Эбергарда — первым делом будет закрывать свою задницу, а там посмотрим еще, кто кого подвинет.
Монстр с осторожностью (что же у него болит… с таким цветом лица… печень? кишечник? Поэтому всех ненавидит?) опустился за стол и вдруг с бешенством зыркнул на передернувшегося судорогой помощника, словно немо вопрошавшего: сбегать? — монстр забыл! — листок с планом «разговора»? очки? — всё, короче, с самого рождения монстра пошедшее криво по вине окружающего быдла, стало невыносимым совсем вот с этого мгновения — это почуяли все, и наступившее лютое молчание своей предгрозовой дурнотой напомнило школьное «к доске у нас пойдет…» или минуту, когда любимая подсоберется с силами и скажет наконец «да» или «нет» (знаешь, что «нет», «у меня есть другой», или «я устала прощать»; если бы «да» — стала бы так долго готовиться!), минуту, когда что-то легко и обморочно звенит в ушах, и хотя ничего еще не случилось, но так плохо, словно уже случилось, а когда случится, будет обязательно — еще хуже. Ноздри монстра раздувала злоба, каждое утро он вставал с постели, чтобы уничтожить врага, и здесь он для этого.
— Я, — выдавил монстр, настраивая голос, и все услышали, как черные люди загребают лопатами снег на выезде от префектуры на Тимирязевский и швыряют под проезжающие колеса, как лепестки роз под счастливые шаги новобрачных в рай, — я — исполняющий обязанности префекта Восточно-Южного округа. Буду работать в округе, пока работает мэр, — аккуратно подлизал, пусть передадут. — Заступил я к вам, — в голосе префекта засквозили придурковато-деревенские нотки, заиграл, — сел так в кресло префекта и взялся читать устав города, с этого, разные там чудачки говорят, надо начинать, — пнул вице-премьера Ходырева. — А кресло мя-аконькое, и так мне сладко сиделось, я и подумал: вот работка так работка! А потом, — монстр выпрямился и прищурился от какой-то рези в глазах, — проехал по улицам, вошел в аварийные дома, увидел, как живут многодетные матери, ютятся в тесных и холодных квартирах, увидел проданные коммерсантам детские сады, помесил грязь во дворах и по брошенным стройкам, прочел письма обиженных нашим чиновничьим бездушием, ограбленных приватизаторами, запуганных наркоманами и хулиганьем… — он постукал кулаком по столу, потому что поднявшиеся чувства затопили гортань и надо переждать, чтобы восстановился рабочий уровень для производства словоговорения, — и понял — вот здесь! — моя работа! Вот — на земле! — мое место!
Эбергард слушал с третьего ряда, сразу за главами, дальше не мог сесть, ему полагалось в третьем, на первом — замы префекта; главы управ и руководители муниципалитетов на втором; если бы Эбергард сел дальше, все бы поняли: боится; он сидел за каменно глядящими не непосредственно на префекта (читался бы вызов), а в общем, туда, в область его местонахождения, Фрицем и Хассо, прячась за подмороженного сединой Хассо; ужасно захотелось оглянуться: улыбается кто? — улыбается? — хоть жестом, поправляющим очки? переменой ручной опоры? поерзыванием в смене отсиженного места на отдохнувшее? — чтобы кто-то поймал взгляд его своим и мигнул не мигая: да, отжигает наш, поднатаскал кто-то монстра за это время — и всё-таки обернулся (хотя — не надо, ровно сиди!). Но никто не взглянул в ответ, все стыли, как кладбищенский разнобой крестов и плит, неодобрение похоронной процессии сквозило в глазах: как можешь ты отвлекаться сейчас, время ли!.. — все до одного — мимо; заметил его, скривив губы, только Пилюс и, угрожающе поиграв пальцами, покрепче прижал к себе папку с бумагами — толстую папку; так и не сел, оставаясь на входе, псом.