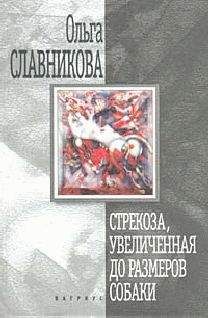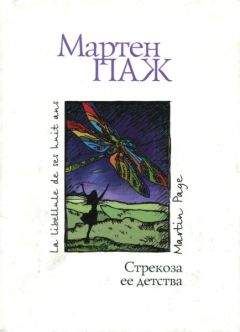Навстречу ей с обросших сорняками бревен встала и пошла, закрывая темнеющего вместе с улицей Ивана, компания пацанов. Класс седьмой или восьмой, определила Софья Андреевна,– все патлатые, с челками, в узких гипюровых рубахах с грубо белеющими швами, в непомерных клешах, бросающих налево и направо длинные косые складки. То один, то другой, распялив пятерню, лупил по дороге икающим, до земляной же твердости накачанным мячом. Лениво тяжелея на двух подскоках, грязный мяч откатывался в сторону, отставал, и моментально шебаршение поисков переходило в гогот потасовки, клеши хлестались в пыли, чья-то голова орала из-под свешенных волос, зажатая под мышкой победителя. Те пацаны, что замешкались в стороне, тоже начинали пробовать друг друга кулаками: им было мало мяча, мало самих себя, пустая улица дразнила их пугливой дрожью спутанных теней, не успевающих соткаться в темноту, застигнутую за самой нежной частью нитяной работы.
Еще до того, как все они уставились на нее, пихая пригожего детину, который, сведя глаза, разбирал у себя на шее какие-то цепочки и шнурки, Софья Андреевна почуяла опасность. В стенах собственной школы она без труда управлялась с таким хулиганьем: даже ни в чем не провинившиеся, они при одном звуке ее внятного голоса бросали от себя подальше все свои дела, замирали и силились сделаться одинаковыми; жизнь буквально расстилала перед Софьей Андреевной благопристойность, так что она могла спокойно заходить – и заходила, преследуя нарушителей,– даже в залитый рыжими лужами, кисло воняющий сырыми чинариками мужской туалет. Теперь же Софья Андреевна, видя перед собой размазанные ухмылки (пригожий детина, наводя выражение, вытер рот кулаком), внезапно ощутила на себе глухой мешок одежды, ощутила свой неказистый комель в толстых, с начесом, штанах. Не отдавая себе отчета, она от одного присутствия Ивана в ближнем растворявшемся пространстве превратилась просто в женщину и шагала совершенно беззащитная на кодлу молодых самцов, непонятно как удерживаемых за здешними школьными партами. В лице детины, скуластом, как кринка, ей почудились знакомые черты – и моментально вспомнилась бабенка, вылезшая из-под ее стола, глядевшая вот так же исподлобья, по-кошачьи курносая и бесстыжая. Этот крупнотелый парень-переросток мог оказаться (возраст его подходил) буквальным порождением той ужасной ситуации и мог возникнуть на пути у Софьи Андреевны как последствие ее протеста, подученный матерью или сам почуявший в городской серьезной женщине кровного врага.
Слева, переведя телеграфный столб, открылся неожиданный переулок,– даже не переулок, а щель между хилыми заборами, забитыми, как расчески волосами, сухой прошлогодней травой. Сделав вид, что ей туда, Софья Андреевна перелезла через кучу размытого гравия, чувствуя на обращенной к хулиганам спине как бы приклеенную метку. Тотчас она очутилась в дощатом тупике, занятом величественной свалкой, лежавшей как горы сокровищ, потемнелых и пожухлых от времени и дождя. Вдруг что-то зашныряло в крапиве у самых ног, с шорохом сыпануло по горбылю, клацнуло в плеснувшую ржавой водичкой консервную банку. Сзади слышался мат и хруст сгребаемого гравия, который, широко замахиваясь и теряя из виду цель, швыряли хулиганы; впереди, за растревоженным забором, крупно встряхнулась собачья цепь. Глотая подступившее сердце, Софья Андреевна заметалась в многоугольном тупике,– но куда бы она ни повернула, все перед ней угрожающе оживало, вздрагивало, как бы пробовало на камешках отражательную силу, способную отбросить Софью Андреевну назад в ловушку. Внезапно в затылок ей пришелся полый, со звоном, удар. Растерявшись, будто ей сбили набекрень несуществующую шапку, Софья Андреевна вскинула руки к голове, и одновременно мяч запутался в ногах, а от шарканья за спиной отделился простодушный топот. Теперь, с мячом, Софья Андреевна представляла для преследователей двойную цель. В каком-то спасительном помрачении, уже без единой мысли в тугой и легкой голове, она, ковырнув отбросы башмаком, поддала по мячу, и он вместе с мелкими щепками полетел в одну сторону, а Софья Андреевна побежала в другую. Забор, изгибаясь, сделался волнистым, как стиральная доска. Под ноги Софье Андреевне, тряско позванивая, все попадались заскорузлые, плоские, удивительно тяжелые останки сандалий и босоножек – будто окаменелые следы отчаянно спасавшихся женщин и детей.
Софья Андреевна не чуяла, что царственная свалка давно осталась позади, не понимала, что дощатая клетка в действительности все-таки представляла собой проход, по которому она неслась то тем, то этим боком, всячески удлиняя его своими поворотами и кружениями. Очнулась она на каких-то огородных задах, под черными ветвями влажно пахнувшей ольхи. Отчего-то ветви над ней тряслись – но уже успокаивались и входили в лад с общей дрожью весенней древесной упругости, плохо поддающейся ветру, не сменившейся еще покорным шевелением распущенной листвы. Прямо перед Софьей Андреевной серел округлый колодец, сложенный из бокастых камней. Волнение ее немедленно перешло в неистовую жажду глотка воды, ледяного, простудного, способного утишить торфяное тление разгоряченного тела. Набухшая крышка из толстых досок, издав надсадный скрежет, откинулась на резко выгнувшихся петлях и опахнула Софью Андреевну болотным запахом осклизлого испода. Колодец был глубок и в глубине окован истонченными скобами голого мокрого льда. Гладкое клюканье капель придавало что-то жилое, даже кухонное его жутковатой черноте, и от каждой капли волновалась зеркальная перепонка на поверхности воды с изгибающейся черной кляксой от головы далекой Софьи Андреевны,– но ее долго не могло пробить цепное легкое ведро. Наконец оно зачерпнуло, стало стоймя, Софья Андреевна налегла на ворот, чувствуя, как в туфлю пробирается сопящая сырость. У воды, качнувшейся из ведра в лицо, не было совершенно никакого вкуса, только ломящий холод, но когда, наглотавшись, Софья Андреевна попыталась умыться, она ощутила, что ледяная жидкость щиплет руки, словно одеколон.
Только теперь она обнаружила липкую ссадину на запястье. Софья Андреевна не могла припомнить, пацаны ли достали ее камнями, сама ли она обо что-то шоркнулась в горячке постыдного бегства. Загнанная, униженная, стоя на неизвестной, какими-то пятнами проступающей тропе, Софья Андреевна больше всего страдала от анонимности нанесенного ей удара. Она никогда не смирялась в школе с ничейностью брошенной в проход между парт, забитой слюнями плевательной трубки, дикого выкрика в буйной дали коридора, карикатуры на свежевымытой доске. Она инстинктивно чуяла, что, если не отыщет преступника, обнаруженное безобразие превратится в проявление и часть порядка вещей, в свойство некоего Высшего Существа, от которого она ожидала награды за муки, у которого хранила свои моральные сбережения. Софья Андреевна неколебимо верила, что получит всю сумму накопленных бедствий обратной монетой, так же как счастливцы и баловни получат свои черные рубли,– потому что иначе человек, не сведенный к нулю, останется со своим горем или счастьем и сделается бессмертен. Чтобы не возникало сомнений в моральной безупречности Высшего Судьи и его небесной сберкассы, за каждое дурное дело должно было нести ответственность конкретное лицо. И Софья Андреевна ревностно выявляла виноватых, всякий раз успешно, поскольку все события имели участников: раз, когда ураганный ливень выхлестал на пришкольном участке прутяные яблоньки, Софья Андреевна добилась, чтобы наказали тех, кто их туда посадил. И теперь, вдали от дома преисполняясь знакомым набожным вдохновением, она решила, что во всем виновата родня. Они заманили ее в этот дикий Владивосток, хотя не могли не знать, какая здесь обстановка, как относятся к приезжим, какие тут болтаются мерзавцы в гипюре на голое тело (знают, должно быть, каждого по имени и где живет) – и, Господи, какая тут тоска от крашеных домишек, от несущей их как бремя горбатой земли, замусоренной так, будто озверелый Первомай продолжается на ней бесконечно! Но главный и крайний виновник ее злосчастного путешествия был, разумеется, Иван.
Все-таки надо было идти назад. Но теперь – словно Софья Андреевна, как молила в беспамятном кружении бегства, очутилась за тридевять земель,– теперь она никак не могла выбрести хоть на какую-нибудь улицу. Кругом были только пустые огороды, черные баньки на голом месте, тусклые теплички, с полым треском раздувавшие от ветра впалые бока,– второй, уменьшенный Ижевск, где, не умирая, а просто исчезая в расширявшемся для них пространстве, могли бы жить растущие под землю старики. Софья Андреевна все брела и брела и видела сквозь заборы только заборы,– они волочились туда и сюда, соскакивали зубьями с рабочей полосы, будто без конца перетирали что-то. Один раз, с пригорка, в неожиданной стороне, она увидала давешний прудок: он все еще был светлее своих берегов и казался железкой в угле, остро заточенной с ровного краю. Большие, настоящие дома с людьми стояли вдалеке, за теменью обширных гряд, и орали музыкой, будто радиоприемники, уже не выделяя натуральных живых голосов, зато раскатывая их на все притихшие окрестности. Распознать дома с огородных задов было невозможно: те приметы, что запомнила Софья Андреевна, остались с другой стороны, и к тому же то были дневные, частные признаки, не имевшие отношения к общему очерку изб, еще и искаженному с задворок ломаной чернотой сараев, просевших навесов на тонких столбах. В этот сумеречный час исчезающих расстояний, переливаний из пустоты в пустоту любая вещь могла, всего лишь обрисовавшись на фоне неба, сделаться главной чертой потемневшей местности. Несколько раз Софье Андреевне чудилось, будто она уловила что-то знакомое в сочетании ската крыши и провисших над ней проводов. Тогда она тихонько открывала заднюю калитку и, пройдя десяток шагов по едва различимой, внезапно уводившей в сторону меже, замирала в нерешительности, прислушиваясь к невнятному людскому гаму с отрешенным чувством, будто глядит с того света на этот, странно скудный посреди пустой, догола, до вывернутых комьев ободранной земли. Над головою у Софьи Андреевны тоже не было утешения: закат растаял вместе со своей атмосферной основой, и металлических оттенков облака висели под мелкими звездами, ни на чем не держась в прозрачной пустоте; заглядывая туда, Софья Андреевна теряла равновесие и ступала пяткой в мягкую, сыпучую гряду. Она уже начинала всерьез беспокоиться о дочери. И вот в самом безнадежном, тощем, будто палкой расковырянном огороде, вытрясая из туфли, она заметила под кустами крыжовника ничком лежащую книгу с неловко подвернутым пластом страниц. Когда же Софья Андреевна, с трудом раздирая царапучие низкие прутья, добралась до находки, запачканная книга оказалась тем самым романом, который девчонка весь день не выпускала из рук. Наконец-то бесконечная худая полоса заборов, которая, то заедая, то расползаясь, то опять сходясь, не пропускала Софью Андреевну домой, внезапно раскрылась, как замок «молния», и освободила нужную складку местности. Книга была не только указанием, но и как бы поводом вернуться, делом, с которым Софья Андреевна могла уверенно войти в свекровью, неизвестно что готовившую ей избу. Держа сырую находку подальше от светлой юбки, она пошагала прямыми углами между гряд на резкий свет, косо выходивший между расхлябанных ставен.